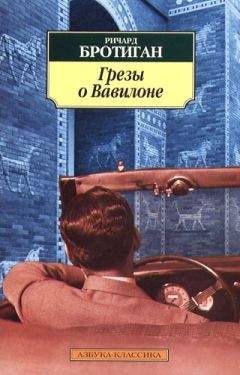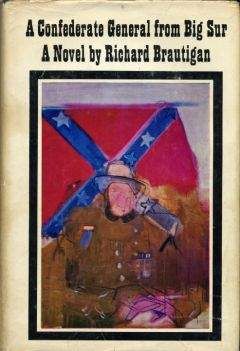Ианте Бротиган - Смерть не заразна
— Ты сама подумай, как ты себя ведешь. Как только дорастешь до восемнадцати, ничего больше не получишь. На меня тогда не рассчитывай.
Помню, я смотрела на него и, думала: с кем он разговаривает? Наконец мне удалось вырваться, и я в грозу убежала из дома. Остановилась я лишь на конском пастбище, села, уткнулась в колени и заплакала. Отец вышел и стал меня звать. Голос у него был испуганный. Я не вернулась. Гроза переползла за реку, на другую сторону долины, там стихла, пошел мелкий дождь. Ко мне подошла моя лошадь, и я, спрятав лицо в пыльной гриве, обняла ее теплую шею.
Больше отец на меня не кричал — до тех самых пор, пока в двадцать один год я не решила выйти замуж.
В то лето на один вопрос он мне все же ответил — на вопрос, почему он пьет. Мы сидели на заднем крыльце, был закат. И отец, потягивая из стакана белое вино, сказал, что каждый человек думает, как умеет, и он тоже думает, как умеет, но иногда от напряжения голову будто стягивает стальной паутиной и это невыносимо, ну а алкоголь — единственный ему известный способ ее снять.
Потом несколько дней подряд он рассказывал о своем детстве невероятно грустные вещи. Рассказывал, как рос во время Депрессии, как матери со всеми детьми, с ним и сестрами, часто приходилось переезжать.
«Маме, чтобы испечь оладьи, приходилось выбирать из муки крысиный помет. Ни молока, ни яиц не было».
«Когда в школе была вечеринка, я сидел за дверью, рядом с другими такими же, как и я, у нас не было десяти центов заплатить за вход».
«В Грейт-Фоллз мама оставила меня у отчима — он был помощником повара. У него я ел и жил в гостинице в собственном номере. Мне тогда было семь лет».
«Я видел, как отчим ударил маму сковородкой так, что она потеряла сознание, а он пошел готовить обед».
Какой-то из его отчимов бил и его.
Он рассказал, как совсем маленьким любил закапывать призы, попадавшиеся в коробках «Крекеров Джекс». И однажды, когда денег не было, решил, что это не препятствие для сообразительного человека. Взял игрушечную тележку, отправился в магазин на углу и набрал там столько коробок, сколько уместилось в тележку. Дома он аккуратно выудил все призы и все закопал. Мать об этом узнала. Она вернулась с ним в магазин и заплатила за крекеры, потратив на них всю ту ничтожную сумму, которая предназначалась в семье на еду.
«Потом какое-то время мы ели только „Крекеры Джекс“, на завтрак, обед и на ужин».
Наверное, эта история казалась отцу смешной, но вид у него, когда он ее рассказывал, был печальный. Раньше мне и в голову не приходило, что отец в детстве мог голодать. И когда он об этом сказал, все во мне перевернулось. Единственный вывод, какой я тогда сделала: об отце нужно больше заботиться.
Я перестала огорчать его разговорами о вреде пьянства. Научилась помалкивать, если в восемь утра он приносил ко мне в спальню кусок мыла и говорил, что вот он, его мне завет. Научилась с ним обходиться, когда он пьяный хотел в три часа ночи прочесть свой новый рассказ, а я хотела спать. Научилась ловко вытаскивать его из ресторанов.
Больше всего я тогда ненавидела, когда он читал по ночам, страницу за страницей, сидя в углу под тусклой лампой. Как ни странно, теперь это кажется мне забавным. Будто сценка из сериала:
— Итак, что плохого сделал вам ваш отец?
— Читал по ночам свои рассказы.
— Что вас выручало?
— Рассказы. Они были замечательные.
— Если бы тебя здесь не было, — сказал он мне однажды ярким солнечным утром, когда мне было четырнадцать лет, — сегодня ночью я застрелился бы, но я не хотел, чтобы тело обнаружила ты.
Я сижу пишу об этом, пытаюсь почувствовать ту боль, какую почувствовала тогда от его слов, и не могу. Она лежит глубоко, где-то на дне души. Слышу только тихий тогдашний голосок, который шептал: «Будь сильной. Ты ему нужна, позаботься о нем. Не сумеешь — случится что-то ужасное, ты его потеряешь». Я сижу смотрю на небо, хмурое, как в то дождливое лето 1974 года, и перебираю в памяти то, что я потеряла. Я потеряла отца. Отца у меня больше нет.
В то лето я просыпалась от птичьих голосов и быстрей убегала гулять. Я любила на ранчо все. Огромное окно в кухне напротив мойки, откуда хорошо было видно амбар и окно отцовского кабинета. Любила даже монотонный, успокаивавший шум посудомоечной машины, под который я засыпала каждый вечер. Запах свежей краски, ассоциировавшийся у меня с надеждами на хорошую жизнь. Огромные тополя, которые поскрипывали от легкого ветра и сыпали белыми хлопьями, а я их собирала щеткой, наметая в углу целыми горами. Вскоре в гости к отцу приехали его адвокат Ричард Ходж вместе с женой. Пока они у нас жили, отец ходил трезвый.
Пили мы ледяную воду из горного ручья. В начале лета все краны оказывались забиты сосновыми иглами. Мне ужасно нравился наш насос во дворе. Он был почти как в вестернах. Я стояла качала ручку вверх-вниз, как было велено, до тех пор, пока не начинала течь чистая вода. Я не могла понять, почему отец, прекрасно видевший разницу между плохой водой из колодца и чистой, проведенной в дом из ручья, не признавал очевидного: алкоголь опасен. Я стояла качала насос, первая, грязная вода текла по земле, и я думала, что, быть может, если смотреть на нее подольше, в голову придет хоть какая-нибудь толковая мысль. Ничего мне в голову не пришло.
В то же первое лето в нашу жизнь вошла Лекси Коэн. Мою первую лошадь отец выбрал в ее конюшне. Моя лошадь была тихая, почти породистая гнедая кобыла с неровной белой полоской на морде. Отец понятия не имел, как ухаживают за лошадьми. Лекси потратила с нами не один час, проверяя, не валяются ли в траве на пастбище обрывки проволоки, которая может поранить лошадь. Отец искал проволоку замечательно. Он находил ее чаще всех. Лекси приезжала к нам после работы и объезжала луг, внимательно вглядывалась в траву. Приезжала она к вечеру, когда отец успевал уже выпить, и потому быстро смекнула, что дела его плохи. Что они плохи, больше, кажется, не понимал никто. Один только Рон Левинсон,[31] давний, лучший отцовский друг, частенько навещавший в то лето ранчо в числе многих прочих гостей, гладя на отца, начал бояться за меня, в чем признался позже, через несколько лет.
Лекси, высокая стройная девушка с волнистыми светлыми волосами и голубыми глазами, была похожа на ангела. В ней был дар мудрости и терпения, который редко встречается в человеке в двадцать один год. Отец относился к ней замечательно, но романа между ними не было, ничего подобного. Причина, почему Лекси часто появлялась у нас, была понятна: по вечерам, когда отец напивался, она старалась меня увезти. Чутье у нее было потрясающее, и не раз она являлась за мной ровно в ту минуту, когда он брал в руки стакан. Лекси любила садиться за руль. У нее был отличный «мустанг-66», и ей не составляло труда прокатиться за сотню миль, чтобы попасть в кино или на танцы. Старше меня всего на шесть лет, она часто наставляла меня, как жить. Она была одной из немногих знакомых мне женщин, кто жили действительно самостоятельно. В сумочке у нее всегда лежало что-нибудь интересное: например, рядом с губной помадой или клещи, или лошадиное глистогонное. Остальные все были просто женами при знаменитых мужьях. Они были умные, добрые, но, как мне казалось, слишком зависимые. Собственной жизни у них не было, и все их существование сводилось к заботам о муже, чтобы тот мог спокойно творить. Правда, мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь так же заботился об отце. Романы он заводил легко, хотя и не представлял мне, во всяком случае пока я была маленькой, все свои увлечения и знакомил только с постоянными подругами, которые держались у него минимум года по два. Подруги у него были все замечательные, но все потом исчезали, и я научилась не привыкать к ним. Когда он расстался с Шерри Веттер, а через несколько лет со Сью Хва Би, хотя, по моим понятиям, обе идеально подходили ему (и мне), я поняла, что долго отец жить не будет ни с кем. Я любила всех его подруг. Правда, отец рассказывал мне, как, когда я была совсем маленькая, я до слез изводила Марсию — ту самую, что на обложке «Пилюль vs. Катастрофа в шахте Спрингхилл». Стоило ему выйти из комнаты, я подходила к ней и шепотом говорила: «Уходи, ты не моя мама». Естественно, что настроение у нее портилось и отец ее заставал чуть не в слезах, но я мило ему улыбалась, и рассердиться как следует ему не удавалось. А Марсия, несмотря на мои проделки, всегда была со мной ласкова.