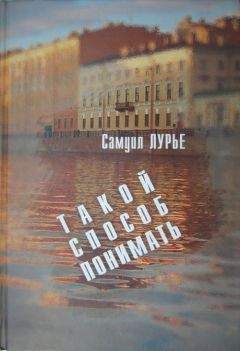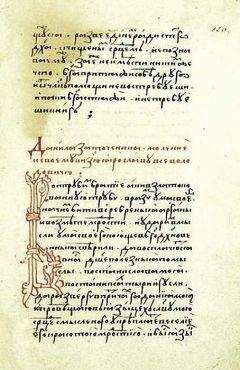Самуил Лурье - Литератор Писарев
Наступил день, когда он перестал сопротивляться: лег на диван, отвернулся к стене и так лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху, но не откликаясь на зов, не отвечая на вопросы.
Адмирал Трескин съездил к попечителю университета Делянову. Тот призвал для совета инспектора Фицтума фон Экштедта. Инспектор аттестовал Писарева как даровитого и благоразумного студента и добавил, что от сбора, который дали великопостные концерты прошлой зимы, осталась еще малая толика денег, достаточная для того, чтобы поместить бедного юношу в частную лечебницу. Делянов согласился.
— Доктор Штейн берет шестьдесят рублей в месяц, но это знающий врач, и у него обеспечен пациенту хороший уход. А в городской больнице несчастный молодой человек вряд ли поправится.
На следующий день — это было в середине декабря, — к ужасу Коли Трескина и Скабичевского, плакавших в соседней комнате, двое здоровенных мужчин явились за Писаревым и отнесли его в карету, чтобы доставить в психиатрическую лечебницу доктора Штейна — Тверская улица, дом 10, у Таврического сада.
Глава шестая
1860. ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ
Как это сказано у Диккенса, в романе, который появился в России года за два до описываемых событий?
«На нашем жизненном пути мы встретимся со всеми, кому суждено встретиться с нами, и сделаем для них, как и они сделают для нас, все, что должно быть сделано… Вы можете быть уверены, что уже вышли в путь те мужчины и женщины, которые должны столкнуться с вами. Да, без сомнения, столкнутся».
Пока Дмитрий Писарев, в уверенности, что весь мир — зловещая мистификация, бился головою о стены, которые предусмотрительный доктор Штейн распорядился обить войлоком; пока, терзаемый непереносимым ужасом, больной пытался спастись, затягивая на горле скрученную жгутом простыню, одним концом привязанную к спинке кровати; пока его пичкали солями железа, успокаивали теплыми ваннами, отвлекали от навязчивых идей гимнастическими упражнениями и выводили гулять во внутренний дворик больницы; пока Варвара Дмитриевна, примчавшаяся в столицу по письму адмирала Трескина, следила из окон докторской квартиры, как робко бродит в кучке безумных ее сын, — в это самое время происходили события, определившие продолжение его судьбы. Но Писарев об этих событиях не знал.
И люди, которым предстояло сделаться соучастниками его славы и совиновниками его гибели, тоже пока еще не думали о нем или даже не подозревали о его существовании, а занимались своими делами.
Уже были разработаны вчерне основные положения крестьянской реформы, и журналы получили дозволение говорить о вреде крепостного права. Открылись в Киеве, а затем в Петербурге и в Москве первые бесплатные воскресные школы — на манер лондонских. В ноябре был учрежден, а с января принялся действовать Литературный фонд — общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым.
Десятого января в зале Пассажа состоялся первый платный вечер в пользу Литературного фонда. Впервые русская образованная публика увиделась со своими любимцами. Тургенев, встреченный бурей рукоплесканий, прочитал статью «Гамлет и Дон-Кихот». В кругах, близких к журналу «Современник», подозревали, что Иван Сергеевич готов изменить журналу, что, говоря о Дон-Кихотах, он едва ли не имеет в виду людей отрицательного направления во главе с Чернышевским, едва ли не подпевает статье Герцена против Добролюбова — «Very dangerous!!!». Однако Иван Сергеевич объявил, что статья его идет в январской книжке «Современника», вместе со всею залой горячо хлопал Некрасову и был очень мил с Чернышевским, брал его под руку, шутил: «Вас я могу еще переносить, но Добролюбова не могу». — «Это оттого, — сказал Чернышевский, — что Добролюбов умнее и взгляд на вещи у него яснее и тверже». — «Да, — отвечал Тургенев с добродушной шутливостью, — да, вы простая змея, а Добролюбов очковая змея».
Этот тургеневский mot мгновенно распространился в публике, и многие злорадно усмехались, негодовала только молодежь. Из старших один Гончаров был недоволен выходкой «бархатного плута», как называл Тургенева в разговорах с короткими знакомыми. Иван Александрович злился, хотя дела его шли прекрасно: лето он провел в Мариенбаде, жадно читая русские журналы и газеты, в которых взахлеб хвалили «Обломова». Добролюбов в «Современнике» превознес его до небес — и как верно взял и глубоко, даром что вчерашний студент, и несмотря на свои опасные заблуждения, — но Герцен, друг Тургенева Герцен, этот наглый агитатор, поместил в своем вредном листке статью, наполненную ругательствами против Добролюбова, а главное — против самого Ивана Александровича! Он позволил себе сказать, что «Обломов» непроходимо скучен! Что это, видите ли, «длинная одиссея полузаглохшей, ледящейся натуры, которая тянется, соловеет, рассыпается в одни бессмысленные подробности». «Вы готовы, — обращался Герцен к Добролюбову, — сидеть за микроскопом и разбирать этот гной…» Каково?! Ничто не могло утешить Ивана Александровича — ни слава, ни значительная сумма, полученная за «Обломова», ни даже новый роман, потихоньку подвигавшийся, — отрывок из него Некрасов взял в ту же январскую книжку «Современника», где появится этот самый «Гамлет и Дон-Кихот». Иван Александрович был мрачен, и острота Тургенева еще больше воспалила в нем желчь. Уж конечно, «бархатному плуту» не по душе Добролюбов, раз этот юноша понимает значение Гончарова.
Добролюбов на вечер в зале Пассажа не пошел. Ему нездоровилось. Он сидел дома, в своей квартире на Моховой, и вслух читал младшему брату книжку, на обложке которой значилось: «Рассказы из народного русского быта Марка Вовчка». Рассказы были хорошие, трогательные, простолюдины страдали в них гордо, и Николай Александрович почти решил, что напишет об этой книге.
Автор ее, то есть Марко Вовчок, то есть Мария Александровна Маркович проводила эту зиму в Гейдельберге вместе с сыном, и муж ее тоже был здесь. «Кулишом они оба очень недовольны, — сплетничал один современник, — и очень обрадовались его примирению с женой». Но у самих Марковичей семейная жизнь, несмотря на старания Афанасия Васильевича, не выправлялась. Мария Александровна раздумала возвращаться в Россию: она увлеклась молодым юристом Александром Пассеком, и он, к огорчению своих родных, тоже горячо полюбил эту замужнюю, взрослую (на несколько лет старше него) женщину. Назревал скандал и разрыв, мать Пассека плакала, Маркович плакал, говорилось много злых и жалких слов. Тем не менее Мария Александровна успела написать новую большую повесть «Червонный король». Полонский выпросил ее для «Русского слова». Герцен, с которым она еще осенью, побывав у него в Лондоне, почти подружилась, назвал эту вещь гениальной.