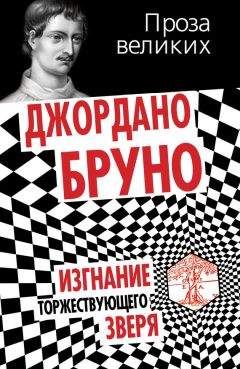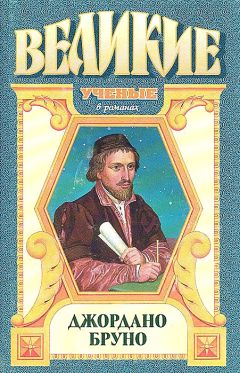Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
Яков не отвечал: не излагать же ему последнюю внутриэкономическую сводку Партигула, а другой, до того молчавший, сказал:
— Что у нас может произойти? Что пристал к человеку, — и предупредил Якова: — К завтраку надо будет встать. Во второй раз обносить не станут: надо будет с миской у двери стоять.
— Во сколько он? — спросил Яков.
— В семь.
— Я проснусь.
— Не проснетесь, разбудим, — пообещал он, а старожил снова удивился:
— Гляди, вправду заснул! — И верно: Яков, который в первую минуту лишь притворялся спящим, во вторую захрапел самым натуральным образом, так что у соседей сжалось сердце: пришел храпун да еще в звездочках. — Бесчувственный какой. Молодец, да и только, — искренне похвалил он. На самом же деле это было, конечно, не бесчувствие и не завидная выдержка — просто Яков был измучен событиями ночи и ему нужно было на время забыться, чтоб прийти в себя и опомниться…
Утром его никто не будил — он проснулся сам: загремела дверь, и в камеру после ночного допроса ввели еще одного ее обитателя. Его тут же обступили.
— Ну как, Савельич? Как он с тобой сегодня? Что так долго?
— Долго, зато в последний раз! — Тот, кого звали Савельичем, огляделся по сторонам с напускной и измученной лихостью, словно приглашая всех в свидетели и сообщники происходящего. — Потому что под всем сегодня подписался! И что шпионил в войну, и с иностранной разведкой связь поддерживал! Под всем, ребятушки!
— Там только против тебя материал был? — спросил кто-то недоверчивый.
— Исключительно! — не совсем убедительно заверил его тот. — Мы так с ним договорились. Подпишу, говорю, если вы тех двоих из-под удара выведете — можете оставить, говорю, покойника: ему ничто уже не повредит. А он мне: эти мне тоже нужны. Ну как хочешь, говорю, — мне все одно: я хоть сегодня в петлю, сыт всем по горло! Ладно, говорит, на тех у меня от других показания есть — подписывай…
Несмотря на наигранную удаль и улыбку, которой он словно приглашал посмеяться над своими злоключениями, все после его слов притихли и понурились: их ждала та же участь.
— Что приуныли?! — подзадорил он их. — Держи нос по ветру! Теперь ждать буду приговора. Тоже в один день не делается. Захар вон месяц ждет, а я слышал, и полгода прокуковать можно, пока все соберут. Но у меня проще, — повторил он — снова не слишком убедительно. — Я один работал.
Яков глядел на него во все глаза и не очень ему верил. Не верил он не тому, что он выгородил других: этого никто в камере не принял за чистую монету, — а тому, что он ни в чем не виноват и все вмененное ему в вину выдумано: что-нибудь да было, о чем он говорить не хочет. Но он, слава богу, не сказал этого — иначе бы восстановил против себя всю камеру. Тот, что только что оговорил себя, уловил однако в нем некое противостояние: чувства его были обострены до предела, он словно телом чувствовал к себе недоверие. Это шло у него с допросов, на которых следователи именно тем и брали верх: что ни одного слова заключенных не брали на веру или же умело инсценировали это: это была годами наработанная практика.
— Что-то не так? — громко, во всеуслышание спросил он. — Не так сказал что? — и пригляделся к новенькому, который только очнулся от непродолжительного тяжкого сна, не сразу понял, где он, а когда вспомнил, ужас минувшей ночи раздавил его и он не захотел вставать — в приступе несвойственного ему малодушия.
— Это новенький, — сказали самооговорщику. — Полковник.
— Это я вижу. В погонах разбираюсь, — отвечал тот, разглядывая Якова с особым, идущим с воли, любопытством. — Я вас, кажется, видел где-то, — с учтивостью сказал он, что не означало, что Яков ему нравится. — Не могу вспомнить где. Мне здесь всю память отшибло.
— На лекции, наверно, — неохотно пробурчал Яков, не желая говорить с ним.
— Верно! — живо откликнулся тот. — А вы-то что тут делаете?! Вас в последнюю очередь сажать надо. Я его доклад слушал, — пояснил он остальным. — Другого такого лектора нет. Говорил про победу мировой революции так, что не хочешь, да заслушаешься. Как в двадцатые годы.
— Во второй раз уже сидит, — деликатно поправили его: чтоб не решал сплеча. Тот не поверил:
— Анархист, что ль? У нас был один недавно — с двадцатого года сидит. Сейчас новое дело завели: старый срок кончился — так снова на Лубянку определили.
— Я в Шанхае сидел, — вынужден был сказать Яков — во избежание дальнейших кривотолков. — Анархистов среди полковников я что-то не видел.
— Час от часу не легче! — удивился тот. — Разведка? Так вас давно всех пересажали — не слышал, чтоб новые аресты были. Я ведь тоже свой, армейский, — доверился он. — Только мундир дома оставил: все равно срывать погоны придется. Что вы натворили хоть? На лекции что-нибудь не так сказали? На вас это не похоже.
— Ничего он не сделал и не сказал — я по его глазам вижу, — одернул его сосед. — Почему мы всегда про других думаем, что они что-нибудь да натворили? Это у нас в крови, у русских. Что я здесь видел — так это когда анекдот слушали и не донесли об этом. Даже самих анекдотчиков не видел. Небось, всякий раз стукачи рассказывали.
— Не знаю, что мне хотят всучить, — сумрачно сказал Яков: ему невмоготу было все это слушать. — Но что бы ни было, я ничего подписывать не буду.
Это был выпад против бывшего сослуживца, который не только смалодушничал, но еще и позорил армию тем, что открыто в этом признавался.
— А что это изменит?! — живо возразил тот, чувствуя себя задетым. — Все равно осудят и посадят. А то и расстреляют: что не сотрудничаешь со следствием!..
Яков смолчал, но по его мрачному виду можно было судить, что эти доводы его не убедили. Зато переменился в лице тот, что с ним спорил.
— А я вот подписал. — До него только теперь дошло значение того, что он сделал этой ночью. — Все подмахнул, как сучка последняя, — и пошел к нарам. — Спать буду. Не моя очередь? Отдам за нее завтрак. Есть не буду: не то настроение… — и улегся на нарах, прикрывая глаза и нос рукою: чтоб не мешали скудный электрический свет и вонь от стоящей в углу параши…
Следователю было лет тридцать, из молодых да ранних: он был уже в чине капитана — стало быть, преуспевал на своем поприще. Он был невнимателен и порывист в движениях: торопился закончить одно дело и перейти к следующему — они были для него все на одно лицо, сшиты по одной мерке. Истина его не интересовала: он углублялся в лежащую перед ним папку в поисках опоры, с помощью которой нужно было перевернуть землю под ногами заключенного: здесь это удавалось чаще, чем некогда Архимеду. «Шалопай», — грустно заключил Яков, любивший давать людям определения.