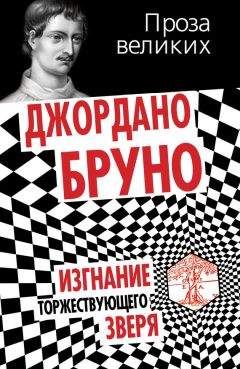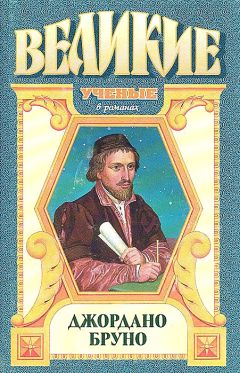Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
— Так на это время уйдет, — не согласился капитан, чувствуя, что тот чего-то не договаривает. — Меня б больше устроило, если б мы как-то иначе поладили. Ладно. Подпишитесь пока под сегодняшним допросом, и хватит. Это пустые формальности. Я наведу справки. Может, они и вправду окажутся в вашу пользу…
Яков начал читать протокол. В нем было черным по белому написано, что он был завербован англичанами еще в двадцатом году и что в Германии и Китае работал двойным агентом.
— Я это подписывать не буду, — хладнокровно сказал он и положил на стол ручку.
На этот раз сорвался следователь:
— Подпишешь, сука! И не такие подписывали! Думаешь пересрать нас своим еврейским гонором?! А мы тебя русским хапком задавим! От тебя мокрого места не останется! Будешь еще в моих ногах ползать, сапоги мне лизать, чтоб я тебе приговор смягчил!.. Тебе ж вышка светит, морда жидовская!..
Это был сознательный расчет, провокация, нацеленная на то, чтобы унизить и подавить строптивого полковника, — хотя и соединенная с личным антисемитизмом следователя. Яков вспомнил тут Прокофьева, который не в пример капитану, готовя смертный приговор, был корректен и почти изысканно вежлив. Впрочем, у них было и общее: оба не любили евреев. Яков на это не оскорбился: брань подобного рода его не горячила, а скорей остужала — сказал только:
— Если вы будете продолжать в том же духе, я напишу жалобу, что вы оскорбляете мои национальные чувства, и потребую вашего отвода.
— И меня тут же сымут с работы! — ухмыльнулся тот.
— Я не настолько наивен, — благоразумно сказал Яков. — Но жалобы никому еще добра не принесли. Они же в личных делах остаются.
— А евреи к власти могут прийти? — поддел его тот, на что Яков пожал плечами:
— Это вряд ли: так вопрос не стоит, но если захотят с вами расстаться, могут воспользоваться и этим.
Следователь не стал спорить с этим, сменил тему:
— А вы, значит, и по архивам лазили?
— Приходилось, — не без достоинства отвечал тот, давая понять, что и он из своих и не последняя спица в колесе. Это была его первая и последняя уступка следствию, но капитан и ее не принял:
— Потому у нас и дела так идут, что такие… — он замялся с определением, — к ним допускаются… Вы в Бунде не были? — спросил он походя: даже на «вы» перешел — но, как оказалось, ненадолго.
— Нет. С семнадцати лет в партии.
— А подписывать бумагу не будете?
— Нет.
— Что ж вы партийный порядок нарушаете? Ну нет и не нужно, — почти одобрил он. — По первому разу никто не подписывает. По первому разу, говорят, не закусывают! — и ухмыльнулся и подмигнул: — Выпить любишь?
— Не слишком.
— «Не слишком», — неодобрительно повторил он, вслушиваясь в необычное сочетание слов. — Это твоя большая ошибка, что не слишком. Могли б сейчас принять с тобой. Ладно иди. А я о тебе думать буду: что делать с тобой, раввинский сын… Раввинским сыном тебя звать можно?
— Сыном можно: я от отца не отрекаюсь. Отродьем только не надо.
— Не надо значит не надо! — охотно согласился тот, играя с ним, как кошка с мышью. — Ступай. У меня без тебя работы — начать да кончить…
Яков вернулся от него в изнеможении и странном опустошении: будто его выпотрошили, как птицу. Его обступили — как после всякого допроса: так встречают студентов, вышедших после экзамена.
— Ну и что? Что тебе вменяют?
— Что я был английским шпионом с двадцатого года…
Теперь он относился к своим сокамерникам с иным чувством: поверил, что и на них возводят напраслину. С ним же здесь обращались с видимым уважением: к разведчикам люди относятся особенным образом.
— А они теперь всем это лепят, — поддакнул ему один из сидельцев. — Сталин, говорят, невзлюбил Черчилля… Не били?
— Нет.
— Теперь редко кого лупят. В отдельных случаях — когда имеется разрешение. Раньше-то всех лупцевали без разбора: на всех была лицензия… И что теперь?
— Ничего подписывать не буду, — сказал только Яков. — Вы разрешите, я прилягу? — обратился он к соседу, который до этого казался ему человеком серым и невзрачным, с которым он не обронил ни слова, будто его вовсе не было рядом, — так что тот даже начал нервничать, потому что отличался робостью и мнительностью.
— Ложитесь, конечно! — немедленно откликнулся тот, радуясь, что Яков заговорил с ним, и встал, чтоб освободить место. — Вы после допроса и старше меня как будто бы…
Яков признательно кивнул и лег на бок.
— Ложитесь. Тут обоим места хватит, — на что сосед немедленно согласился, чтоб не прерывать начавшегося знакомства.
— Савельича помнишь? — зашептал он заговорщическим тоном.
— Помню, конечно. Армейский.
— Ну! Плохо с ним совсем. Ему сегодня приговор огласили и в другую камеру перевели. Сюда не заходил даже.
— И вещи оставил?
— Конечно!.. — Сосед кивнул с размахом: Яков попал в самую точку. — Зачем они ему теперь?.. И не знаешь, что лучше: соглашаться со всем и подписываться или на своем стоять… Они говорят, лучше подписывать, а видишь, как все получается…
В эту ночь Якову не спалось. Следователь, сам того не ведая, затронул больные струны его души и разбудил в нем давно дремлющих или притворявшихся спящими демонов: сам Яков не знал, насколько они болезненны. Когда переходишь в иную веру, невольно предаешь — не старую религию: в конце концов, все они одинаковы — а тех, кто раньше разделял ее с тобою; проклятие висит над отступником — даже тогда, когда переход к новому представляется ему совершенно естественным. Первая любовь не ржавеет — это касается не одних только отношений юноши с девушкой…
Отца он любил. Как ни смешна была ему его преданность Торе, он не мог не признать, что отец был для него примером в жизни: он был честен, справедлив, верен долгу и учил тому же ближних. Мать — другое дело: она писала романы и к живым людям — даже к своим детям — была довольно безразлична; все пылкое и горячее, что в нем было, Яков перенял от отца, все холодное и рассудочное — от матери. Что объединяло родителей — это что оба больше всего на свете почитали Слово: только отец был его читающим поклонником, а мать пишущим. Яков получил в наследство оба эти задатка, но признателен был только отцу. Он любил вспоминать его, но, странное дело, всякий рассказ о нем упирался у него в одно и то же — как он обманул его на смертном ложе. Он рассказывал об этом посмеиваясь и нисколько не виня себя за это: вот, мол, какие бывают случаи — но на сердце его всякий раз кто-то неслышно скребся.
Отец, Гирш Лихтенштейн, рано состарился и поседел — не столько от преклонных лет, сколько от потрясений, которые пережил, когда семью, как и всю еврейскую общину Тукумса, переселили в промышленный Кременчуг на Украину. Евреи, по мнению российского правительства, чересчур любили немцев, и их, от греха подальше, вывезли из вероятного района военных действий. Отец сросся душой и телом с синагогой, в которой испокон веку жила его семья, и с узкими тукумсскими переулками, в которых одним евреям было легко и нетесно. Он и в Кременчуге выполнял свои обязанности: куда он мог от них деться? — но здесь все было не как дома: он словно гастролировал на выезде. Какая-то глубокая и ежедневно растущая трещина возникла в его жизни и отдаляла его от близких. В его собственной семье произошел раскол, и его до сих пор неоспоримое главенство подверглось незримому, но от этого лишь еще более ощутимому сомнению. Старший сын Лазарь и прежде в его отсутствие насмешничал над отправляемыми в доме ритуалами, теперь же и вовсе отошел от семьи и от религии: поступил в банковский институт, пропадал целыми днями, не каждую ночь ночевал дома. Но это была не самая большая беда: отец давно смирился с его предательством и распознал сидящую в нем иронию, когда Лазарю не было и десяти: он тогда уже объявил, что его преемником в синагоге будет Янкель, хоть он и был моложе Лазаря на три года. Янкель горел и дышал верой, читал взрослые места в Торе и давал им свое, им самим понятое, значение, делился своими знаниями с детьми бедняков в хедере и делал это так, что сердце отца переполнялось радостью и гордостью и он заранее предвкушал появление истинного мудреца в тукумсском храме. Но теперь и с Янкелем что-то происходило: он словно перетекал куда-то, его телесная оболочка была рядом, а душа отлетала к неизвестным берегам и готова была там остаться: с отцовской душой ее соединяла совсем уже тонкая пуповина. Это и было для отца причиной преждевременного старения, ударом ножа в его сердце. И Янкель стал уходить по вечерам — именно теперь, когда в городе становилось неспокойно из-за большого числа армейских, от которых никогда не знаешь чего ждать, и когда его присутствие дома было особенно необходимо. Он приходил «оттуда» веселый, радостный, чужой до неузнаваемости и на все осторожные вопросы отца о причинах такого настроения в столь неподходящее и чреватое грозой время отвечал беспечными глупостями, неприличными в своей вопиющей и скандальной лживости. Мать сказала, что у него, наверно, появилась барышня, но в ней говорила романистка — отец знал, что девушки не могут так ярко и так надолго преображать и окрылять молодых людей и так зажигать им очи — особенно таких, как Янкель, чьи глаза открыты сначала на писание, а потом уже на все прочее. Его жена могла бы быть повнимательней к тому, что делалось в доме. Писать романы хорошо, когда все спокойно и няня и экономка ведут хозяйство и следят за детской, но когда в семье поселяется раздор и между ее членами вырастает пропасть? Теперь она, правда, не писала романов, но зато читала их с утра до вечера и лишь изредка поднимала взгляд на то, что делалось у нее под носом: будто то, что она читала в книгах, было важнее злобы дня и самого хлеба насущного. Иногда он глядел на нее с не подобающей ему злостью: не от нее ли идет это вероломство — не от этой ли исподтишка чужой и духовно неверной женщины? Он сказал ей, что Янкель готов отпасть от веры, — она в ответ лишь пожала плечами, и неясно было, что она имеет в виду: не верит в это или безразлична к самой сути дела. Так долго продолжаться не могло. Отец был словно высечен из одного большого камня и не умел жить, как языческий Янус, с двумя лицами, направленными в разные стороны. Он уже и на любимого сына своего глядел иной раз с затаенной ненавистью: правда, всякий раз сменявшейся приливом удвоенной отцовской любви и преданности, на которую способны только евреи, — когда их не обманывают.