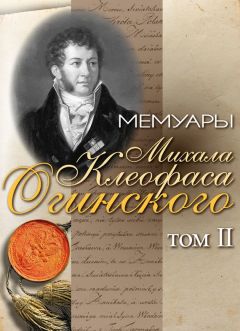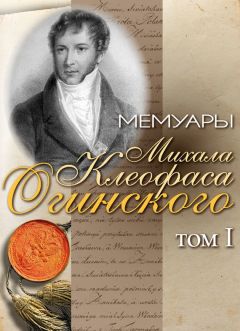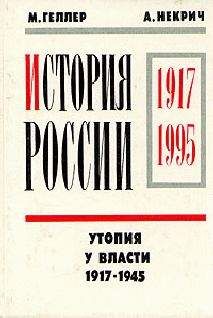Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России
Я очень хорошо помню эту встречу. Родион Самойлов был высокий бородатый мужик за шестьдесят. Отчества его я не знаю: мать, обращаясь к нему, называла его Хозяин, и так стали его звать все мы. Он звал ее Барыней — это был знак признания. Потом он превратил его в «паня», образовав его от польского «пани», что-то вроде «мадам». Хозяин отличался солдатской выправкой, потом мы узнали, что он служил в пехотном полку царской армии. Фото молодого капрала (или, может быть, сержанта?) Самойлова стояло в красном углу на кухне — в этом месте в православных домах вешают иконы. В карандашном наброске его портрета мать изумительно уловила его яркие, со смешинкой глаза.
У Самойлова была бревенчатая изба, плохонькая и сильно обветшавшая. В ней было две комнаты. В маленькой, сразу за входной дверью, стояла огромная русская печка (для приготовления пищи, с лежанкой наверху); оставшегося места едва хватало на одинарную кровать и столик у окна. В этой комнате Хозяин собирался тесниться с собственной семьей, чтобы освободить комнату побольше для нас. Семья его состояла из его второй жены, намного моложе его, которую мать назвала Хозяюшкой, двух их маленьких сыновей, Миши и Коли, и ослепительной Лизы, 13 или, может, 14 лет, младшей дочери хозяина от первой жены. В другой комнате было три окна, небольшая печка (не для приготовления пищи, а только для обогрева) и великолепный семейный иконостас в дальнем углу. К главному входу примыкала полуразвалившаяся пристройка, выходившая в огород, который тянулся до озера. Задний забор выступал как защитное ограждение для отправления естественных надобностей, которое происходило на голой земле. Озеро за забором было удобным источником воды, ее носили в дом женщины (носить воду было ниже достоинства русских мужчин) в ведрах, подвешенных по разные стороны коромысла.
Хозяин объяснил, что ему очень нужны деньги, и назначил скромную квартирную плату, которая превосходила возможности матери. Она сказала, что договорится с тремя депортированными семьями: они поселятся вместе и разделят квартплату. Они договорились, и мать пригласила Наумовичей и пани Галину Скотницкую с дочерью Инкой жить вместе с нами.
В тот же день мы вдевятером въехали в переднюю комнату избы единоличника Родиона Самойлова, где нам предстояла новая жизнь в немыслимой тесноте. Семью Наумовичей мы хорошо знали. Вместе с ними мы проделали путь более трех тысяч километров от Слонима до колхоза «Красное знамя» к востоку от Кургана. Пани Наумович — пани Надзя — была милая добрая женщина, которая всегда первой принималась за хозяйственные дела нашей коммуны. Ее дочь Зося, лет шестнадцати, была пухленькая и веселая. Сын Владек, железнодорожник, как и его отец, обладал одним огромным преимуществом: он был мужчиной, а потому опорой для нашего странного сборища женщин и детей. Владек — не без основания — считал, что продвинулся по социальной лестнице. Он с воодушевлением говорил о своей недавней службе в польской армии, пел романтические песни, аккомпанируя себе на гитаре, и положил глаз на мою сестру Тереску, которой льстило его внимание. После нападения Германии на Советский Союз в 1941 году старый пан Наумович сумел из далекой тюрьмы добраться до Николаевки, так нас в коммуне стало десять. Наумовичи были православными и, наверно, считали себя скорее белорусами, чем поляками.
Гала Скотницкая была человеком совсем иного рода. Привлекательная и светская особа за тридцать, она стремилась войти в круг моей матери и завоевать дружбу Терески. Бросив первого мужа, мягкосердечного младшего сына из помещичьей семьи, она вышла замуж за представителя высшего эшелона польской армии. Она была забавной и писала остроумные стихи. Одно из них было пронзительным описанием нашего быта. Сегодня я помню только первые четыре строки:
Pierwsza wstaje Pani Nadzia
Bierze miotłę i zamiata,
A na szelest starej miotły
Wnet się budzi cała chata.[18]
Дочери Галы от первого брака Инке было лет восемь, и она была избалованной девицей. Ее мать уверяла, что Инка — красавица, и не раз намекала, что когда-нибудь Инка станет моей женой. Поначалу мать забавляли эти выходки, потом ей ничего не оставалось, как с ними мириться. Настоящей подругой матери стала тактичная и всегда готовая прийти на помощь пани Надзя.
Семья Гедройцев занимала в комнате один угол, лишь отчасти отгороженный печкой. Нам удалось втиснуть туда две допотопные кровати. Одна из них, большая деревянная кровать принадлежала Самойловым; вторая, маленькая и неудобная, была плодом новоявленного таланта моей матери к бартеру. Наумовичи обосновались по другую сторону печи и обзавелись кроватью и узкой скамьей. Днем ее использовали как обычную скамью, а на ночь отдавали Владеку. Спать на ней было мучением. Четвертый угол, где стоял маленький стол под иконами, занимали Гала, ее вечно недовольная дочь, еще одна кровать и многочисленные узлы Скотницких. На долгие зимние ночи у стола неприметно ставили небольшое ведерко, которое служило общим горшком. Утром его надо было выносить через половину Самойловых, и это требовало дипломатии и умелой логистики. Мы жили в тесноте, но в мире и терпимости. Со временем это стало драгоценностью, которую ценили обе стороны, наша маленькая коммуна и Самойловы.
Я точно не знаю, насколько велик был контингент депортированных поляков в Николаевке. Все мы старались особо не высовываться и лишь со временем завязали какие-то отношения. На другом конце деревни обнаружилась пани Базилевская со своей гитарой. Пани Тубелевич, офицерская жена, и ее две дочери держались надменно и наособицу. Дородная и шумная жена полицейского и три ее сына-здоровяка оказались более приятной компанией. Была там и атлетического сложения дама по имени пани Махай, впоследствии поразившая нас тем, как мастерски она плавала в реке Ишим. К ее неизбывному огорчению ее сын, мой ровесник, был никудышным спортсменом.
Известный торговец зерном, еврей из города Ошмяна, представился матери, когда узнал из какой она семьи. Он хорошо помнил, как вел дела с семьей моей бабушки. Еще один наш друг-еврей был моим ровесником. Его звали Хиршко Палей. Приспосабливаясь к обстоятельствам, он быстро сменил имя на славянское Гришка. В повседневной жизни он был вялым и неорганизованным. Позже, в школе мы с ним начали соперничать за высшие оценки по математике. Это соперничество оказалось для меня очень полезным, так как я вскоре обнаружил, что Гришка может легко и без усилий меня обойти. Он был прирожденный логик. То, что я побеждал его в других предметах, только укрепило нашу дружбу. Я часто задаюсь вопросом, удалось ли ему реализовать свои многообещающие дарования. Полагаю, что удалось, у него были задатки борца.