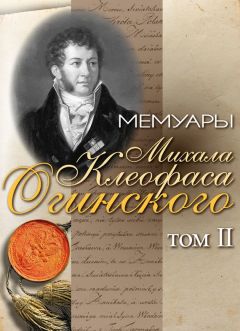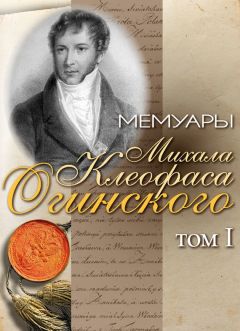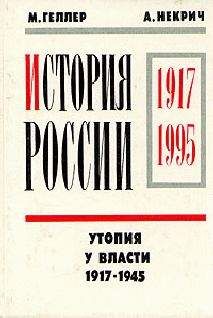Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России
27 апреля мы прибыли на маленькую станцию Петухово, километрах в 200 от Кургана и в 3000 километрах от Слонима. Здесь нам приказали выходить из поезда и садиться на землю рядом с железнодорожным полотном. Мы наконец приехали. Нашему вагону повезло: по дороге никто не умер. Как я понял, в других вагонах смертей было много. Советский похоронный обряд в таких случаях был прост. Два конвоира отталкивали родных и выбрасывали тело из вагона, по возможности во время движения. Для ребенка достаточно было одного конвоира. Те, кто выжил и доехал до Петухова, сбились в кучу, чтобы согреть друг друга под звездным сибирским небом. Утренний морозец накрыл все эти спящие тела, скрывая горе под блеском и сверканием. Я помню, как потряс меня оглушительный рев паровозных гудков в нескольких футах от нашего лагеря.
После двух ночей под открытым небом подъехал грузовик, и нас и две-три другие семьи, в том числе Наумовичей, погрузили в него. Был уже вечер 29 апреля. Мы отправились в путь по голой степи, лишь изредка грязевая колея огибала редкие низкорослые лески, и прибыли в свой безымянный пункт назначения поздно ночью. Нам открыли пустое помещение барачного типа, «ветеринарный центр», и мы расположились на ночь. Здесь, по воле глав советской империи, нам предстояло трудиться и умереть. Преждевременная смерть была неотъемлемой частью плана.
На следующее утро я проснулся первым. Пока все спали, я тихо вышел осмотреть новые окрестности. Утро было морозным, с легкой дымкой. Передо мной был майдан — площадь в центре поселка, огромная, запущенная, вся в рытвинах. Весенним утром майдан казался подсыхающей грязевой ванной. Позже, в разгар короткого сибирского лета он превращался в пыльное месиво, но уже совсем вскоре после этого покрывался толстым ковром сухого сверкающего снега. В дальнем конце майдана я увидел разбросанные там и сям примитивные серые строения; здесь не принято было выстраивать дома вдоль улицы. Не было ни садов, ни деревьев, за исключением двух чахлых берез в дальнем конце, у заброшенной деревенской церкви. Горизонт был плоским, и место казалось совершенно заброшенным. Под впечатлением всего этого я неожиданно почувствовал себя совершенно подавленным.
К счастью, ненадолго. С какого-то двора донесся знакомый крик петуха. Этот универсальный признак сельской жизни был мне знаком и звучал утешительно. Я увидел, что через майдан ко мне кто-то идет, и мне захотелось узнать, что это за место. Я обратился к прохожему на своем ломаном русском и спросил, где я нахожусь. Должно быть, вопрос показался ему странным, так как он стал оглядывать меня с ног до головы. Но потом все понял и терпеливо объяснил, что раньше это место называлось Николаевкой, а теперь его переименовали в колхоз «Красное знамя».
По-видимому, своим названием деревня была обязана одному из двух царей Николаев, и, таким образом, это было недавнее поселение, ему было от силы сто лет. Сегодня его можно найти в Times Atlas,[16] так что, по-видимому, статус его несколько повысился. Но весной 1940 года это была просто затерянная среди бескрайних просторов большая деревня, прилепившаяся к озеру Кубыш, снабжавшему ее водой, но, увы, не рыбой. Рыбы много водилось в Ишиме, притоке Иртыша, протекавшем приблизительно в километре от озера. Окном Николаевки во внешний мир была Транссибирская магистраль, связующая Южный Урал с Новосибирском, Иркутском и Владивостоком. Административно Николаевка (название «Красное знамя» никто не воспринимал всерьез) относилась к Пресновскому району Северо-Казахстанской области. Географически она находилась на южной границе Западно-Сибирской равнины.
Деревня состояла из трех улиц, которые шли более или менее вдоль оси восток — запад, повторяя удлиненную форму озера Кубыш, вытянувшегося вдоль ее южного края. Майдан перерезал каждую улицу посередине на две части. Их называли традиционными именами — Верхняя, Средняя и Нижняя — по их положению относительно озера. Я припоминаю, что при советской власти Нижнюю переименовали в Пролетарскую, но идеологические аллюзии полностью игнорировались. Должно быть, той же чести удостоились и две другие улицы. Все три улицы были зеркальным отражением майдана — просто широкие полосы необработанной земли, неровные, а в плохую погоду непроходимые.
Дома были беспорядочно разбросаны вдоль улиц. Некоторые из них можно назвать избами, но большинство из них были примитивными хибарами, строители которых и не стремились, чтобы они выглядели аккуратно, тем более приятно на вид. Избы получше были деревянные, но большинство строилось из самого распространенного строительного материала в этих краях — необожженных блоков из глины и соломы. Крыши были покрыты «пластами» — кусками торфа, которые собирались летом в степи и клались так, чтобы земляная часть была открыта стихиям. Такой способ покрытия кровли был местным изобретением и эффективным способом защиты от сильных сибирских ветров. Нужно было уметь отыскать подходящее сырье, а потом еще слепить эти пласты.
Два или три строения были настоящими домами, которые знавали и лучшие времена. Одно — до революции в нем, вероятно, жил торговец зерном — стало главной конторой коммуны. У него были большие окна, высокие потолки и старые березы у входа. Другое стало основным зданием местной десятилетки, советской средней школы, в которую ходили дети от семи до восемнадцати лет.
Новейшим архитектурным украшением Николаевки был деревянный постамент с красной звездой — воздвигнутый на могиле нескольких героев революции, погибших за дело пролетариата. Мемориал поместили в верхней части майдана, рядом с оскверненной церковью, вероятно, чтобы он затмил ее и стал для жителей новым духовным и социальным центром. В этом его явно постигла неудача: я никогда не видел, чтобы там проводилось хоть одно официальное мероприятие. Зато неформально у мемориала стала собираться тамошняя толкучка: из соседних казахских аулов на нее привозили овощи и все, что можно было на что-нибудь выменять. Официально власти не одобряли коммерции, но терпели из-за чудовищной нужды населения.
Советская власть была сконцентрирована недалеко от мемориала, через улицу Верхнюю, в двух устрашающих деревянных строениях — сельсовете, органе управления колхоза, под крышей которого находилось также жилище председателя, и радиоточке, отдельном здании, где находился единственный радиоприемник и его зловещий оператор.
Председателем в Николаевке была женщина — хромая, властная и умело пользовавшаяся своим вагнеровским баритоном. Все знали, что радиооператор — энкавэдешник в штатском, основная задача которого — не спускать с деревни и председателя сельсовета своих злобных глаз. Этому зловещему дуэту служил самозабвенный бюрократ, секретарь сельсовета — тоже хромой. Руководящий триумвират был окружен узким кругом придворных, бригадиров колхоза. Это были крепкие ребята, руководившие сельскохозяйственными бригадами. К услугам начальства был целый парк легких конных экипажей, закрепленных за каждым из них. В этих изящных экипажах наши олигархи на огромной скорости объезжали деревню и свои вотчины. Сельский пролетариат взирал на начальников со смесью страха и восточного чинопочитания.