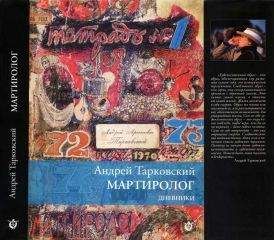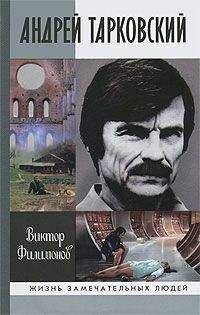Владимир Маркман - На краю географии
— А как ты грабил?
— Как? Выходим обычно, когда темно. Был у меня подручный. Ну, я просил отдать.
— Как просил? Грозил чем-нибудь? — спросил я.
— Ну-у, — махнул Гена рукой, как будто его пытались обвинить в чем-то постыдном. — Обыкновенно, подходил и говорил, как вот сейчас с тобой.
— Покажи, Гена, — попросил я, — не представляю, как грабят.
Что меня поражало в лагерниках, — так это изумительный актерский талант и умение производить желаемое впечатление. И вроде, на первый взгляд, обезьяна обезьяной, и с мозгами и внешностью обезьяньей. А уж если подойдет что-нибудь просить, — так улыбнется ослепительно, как великий актер перед кинокамерой, а уж если грозить начнет — так поджилки трясутся. Но Гена-то был и среди лагерников человек незаурядный, а какой зэк не хочет произвести впечатление?
Гена сполз с верстака и подошел ко мне все с той же смущенной улыбкой и стыдливо полуприкрытыми глазами. Но появилось в его лице что-то пакостное и жестокое. Гена потрепал двумя пальцами мою телогрейку и сказал:
— О, пиджачок-то у тебя неплохой. Смотри, как ты хорошо одеваешься. А я одет совсем плохо. Дай-ка мне его примерить, может, он подойдет мне.
Мне почему-то стало не по себе, но, чтобы скрыть свои чувства, я улыбнулся. А у Гены лицо вдруг окаменело, кожа натянулась на худых скулах, глаза застыли и смотрели на меня одними мертвыми белками.
— Ты посмотри-ка, — сказал Гена удивленно, — к тебе обращаются, как к человеку, а ты не понимаешь.
Гена посмотрел на меня сбоку, как будто пытаясь понять, почему это я не понимаю. Они с Амбалом придвинулись ко мне ближе. Тошнотворное чувство страха сжало мне желудок и подтянуло его к самому горлу, несмотря на то, что я прекрасно понимал, что это игра, не больше. Я улыбнулся изо всех сил, но разве скроешь что-нибудь от матерых рецидивистов? Гена снова сел на верстак и продолжал:
— Ну, а потом, как обычно. Бьешь его, забираешь все и идешь искать следующего.
— Зачем же бить, — спросил я. — Если человек отдает, то и бить не надо.
— Как это не надо? — спросил Гена, как будто я говорил что-то совсем непутевое. — А для порядка? Выбить ему зубы, сломать ему ребра. Это же такой народ. А упадет он, так напарник еще подпрыгнет, да с прыжка даст пяткой в глаз, да еще покрутится на глазу, чтобы потом похвастать — вот, дескать, я на глазу его пяткой крутанул, знайте, мол, какой я.
— Ну что в этом толку, Гена? — спросил я.
— Народ такой, — ответил Гена, подняв руку ладошкой вверх по направлению ко мне, как бы говоря: смотрите на него, этот дурак совсем ничего не понимает.
Жестянка постепенно наполнялась зэками. Один вернулся со свидания с женой — на строгом режиме раз в год разрешается свидание с родственниками в течение трех суток при условии, что нет нарушений. Посыпались обычные в таких случаях мерзопакостные шутки.
— А ко мне никто не приезжает на свидание, — сказал Генаша. — У меня только мать есть, из родственников-то, так и та боится — знает, что я ей там все разорву.
— Ну, Генаша, ты уже слишком, — сказал я. — Родную мать?
— А чего с ней церемониться? — сказал Генаша. — Здесь многим из-за этого не дают свидания с матерями. А уж с моей матерью сам Бог велел. Проститутка. Родила, падла, троих детей. Приводила домой мужиков, пила с ними, при свете жарились, а мы сидели напротив на койке и смотрели. В комнате всего две койки было. Кто же мог из нас вырасти? И ты еще хочешь, чтобы я с этой шлюхой церемонился?
— Всунуть ей, суке, — сказал Амбал. — Ха, а вот и Ворона.
К жестянке подошел старый педераст Ворона и остановился в дверях, не решаясь пройти внутрь. Этот был известен на весь Красноярский край. Был он безобразен, как старая гиена, вконец опустившийся. День для него, вне всякого сомнения, был неудачный. Его мучил кумар — депрессивное состояние у тех, кто привык к чифиру. Он уселся возле входа и подпер голову грязными ладонями.
— Что, Ворона, — спросил Амбал, — чифиру хочешь?
Ворона кивнул.
— Тяжело с чифиром сейчас. Видишь, весь лагерь сидит на подсосе. Нет ни чая, ни махорки. Вот нас тут восемь человек. Если ты всем нам дашь, дадим тебе чая на заварку.
— И еще п-п-пачку махорки, — сказал Ворона, заикаясь. — Мне курить ох-х-хота.
— Мало ли что, — протянул Генаша.
Разговор шел для потехи, но Ворона отнесся к торгу серьезно — его мучил кумар.
— Мало ли что охота. Видишь, самим не хватает. Да и не стоишь ты этого. Если хочешь, дадим тебе полпачки махорки, но тогда чая не дадим.
Но Вороне хотелось выпить чифир и после закурить, и он не соглашался. Торг тянулся к общему веселью и удовольствию. Наконец Ворона понял, что не получит ни того, ни другого. На минуту горестно задумался и вдруг изрек, вложив в одну фразу все, что он знал о человеческих отношениях:
— Еб-б-б-бать все х-х-хотят, а п-п-платить н-никто н-не хочет.
Громкий хохот был наградой мыслителю, и зэки, сжалившись, кинули ему щепотку чая и немного махорки. В жестянку, согнувшись, вошел Леха, держа за хвост пойманную крысу.
— Чего, опять про девок разговор? — улыбаясь, сказал он, кивнув в сторону Вороны.
— А я не могу их жарить, — сказал один из зэков, — Лучше бабы ничего не может быть на свете.
— Скажешь тоже, — сказал Леха, запихивая крысу в клетку. — Я вот всех перепробовал, начиная от домашней птицы и кончая лошадьми, А вот бабу так и не попробовал. И не представляю, что это такое. Да много ли тут таких, что баба у них была?
— Кобыла — это хорошо, — сказал Амбал. — Раньше в лагере были кобылы, так хорошо было. А сейчас хозяин запретил на них возить, все мерины, некого и трахнуть. Хоть бы на дальние командировки угнали, там с кобылами попроще.
Я поднялся и направился к выходу.
— Что, тошнит от лагерного базара? — крикнул мне вдогонку со смехом Генаша, — Тут ты другого не услышишь. Привыкай, земляк.
Я направился в мастерскую к Святому Отцу в надежде скоротать время — работы как раз было мало: лес не подвезли. Дороги занесло снегом.
Святой Отец был невысокого роста, белобрысый и мастер на все руки. Он утверждал, что есть Бог и на земле все от Бога. Не верил он, конечно, ни в Бога, ни в черта, а болтал просто так, дурака повалять — у всякого в лагере есть какой-нибудь пунктик. Но прозвали его Святой Отец, и он очень гордился своей кличкой.
В мастерской Святой Отец вставлял двум зэкам металлические зубы. Раньше он их делал из меди, но зубы эти окислялись, и многих увезли в больницу с острым отравлением. Потом Святой Отец достал где-то ванночки, в которых в лагерной больничке кипятили шприцы, и стал делать зубы из них — и дело у него пошло бойко. Расплачивались зэки чаем — это лагерная валюта, которую можно обменять на что угодно.