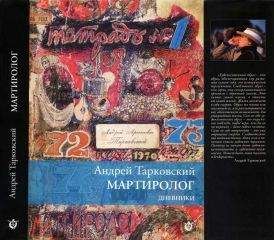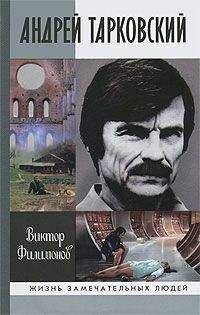Владимир Маркман - На краю географии
— Менты идут!
Все бросились по баракам. Татарин залез под одеяло прямо в сапогах и зэковской робе и притворился спящим. Остальные принялись расправлять постели — был уже час отбоя. Два надзирателя зашли внутрь, подозрительно оглядели всех и ушли, приказав немедленно ложиться. Немного погодя Татарин вскочил и выбежал наружу, потом снова забежал обратно и залез под одеяло. Никто, конечно, не спал.
— Как там дела? — послышался голос.
— Менты расставили посты по всему лагерю, — сказал Татарин. — Сегодня ничего не получится. Завтра, наверное, будем говорить в рабочей зоне. Только ножи придется запрятать, завтра шмонать будут как надо.
Глубокой ночью пришли надзиратели и увели Татарина в изолятор. Варяга забрали наутро. Кто-то своевременно предупредил администрацию. Без главарей банды сразу же распались и притихли. Татарина снова отправили на особый режим, а Варяга вернули на несколько дней в зону: он ожидал отправки в другой лагерь.
* * *Едва ушла первая смена, я стал одеваться, незаметно засовывая за пазуху конверты с письмами, которые мне необходимо было отправить собственным тайным каналом. Не спеша надел я толстые шерстяные носки — мое бесценное лагерное сокровище, которому завидовали все, потом взялся за тапки. Вдруг что-то вонзилось мне в ступню. Я быстро поднял ногу и осмотрел тапок — в нем была крошечная вмятина. Кто-то приладил ржавый обломок иглы так, чтобы, когда я встану, он полностью вошел в ногу. Я выдернул его, завернул на всякий случай в бумагу и вышел наружу. У барака Варяг сидел на лавке в своей обычной позе, согнувшись, закутавшись в бушлат, презрительно и уныло уставившись вдаль. Рядом стояла кружка чифира.
— Значит, отправляют, — сказал я, присаживаясь рядом.
Варяг кивнул.
— Они, суки, знают, куда меня отправить. На той зоне мой давнишний враг. Я его раз подрезал, да не до конца.
На лице бандюги появилось какое-то подобие человеческого чувства — печаль, что ли, а может, все та же тоска тюремная: надоело все до чертиков и тошнит от всего. А жизнь все заставляет — дерись, ибо нет выхода для таких: или их боятся и подчиняются им, или, почувствовав слабину, расправляются с ними за старое. Ох, как надоел ему, видимо, этот путь, а уже никуда не свернешь! Лагеря, драки, убийства — до тех пор, пока кто-нибудь, более молодой и сильный духом, не одолеет или камера смертников даст бедняге свой последний приют.
— Случилось что-нибудь? — спросил Варяг, остро, как бритвой, полоснув прищуренными глазами.
Я достал ржавый обломок иглы.
— Чуть в пятку не вошел. Хорошо, что я не встал на пол, а руками стал надевать тапки. Иначе бы весь зашел.
— Знакомые делишки, — сказал Варяг. — Быть может, на игле был трупный яд. Я эти лагерные подлянки давно изучил, Но если игла до крови не дошла — ничего не будет, даже если трупный яд насадили. С кем сцепился?
Варяг, не дожидаясь моего ответа, кивнул. Разве упомнишь, кто на тебя может зло иметь?
— В одиночке, — снова заговорил Варяг, — я много читал. Мне начальник тюрьмы разрешил брать книг, сколько захочу. Та к вот, прочитал я рассказ, не то Куприна, не то Короленко — не помню сейчас, кого именно. Как двое бежали из острога. И в это же время две бабы молодые из женского острога бежали. Дело было еще в прошлом веке. Так вот, мужики шли впереди, а бабы — сзади, метрах в трехстах от них. Мужики, значит, воровали в селах и часть оставляли на стоянке, а когда они уходили, подходили бабы и брали, что им оставляли. И так вчетвером прошли тысячи километров по Сибири. И только когда на какой-то реке вышли к работягам в открытую, бабы подошли к ним. Читал я это и думал. Или же наврано в книжке, или, если правда, здорово изменился народ. Сейчас бы в побегушке было не так. Баб бы догнали, изнасиловали бы, а потом съели. Сейчас бегут меньше, чем лет двадцать назад. Тогда специально пацанов откармливали для побега. Называли их «сухой паек». В дороге ели — как иначе в тайге с одним ножом еду найдешь? Меня, помню, двое прихватили, не знали они, с кем дело имеют. Было у нас поначалу немного еды. А когда кончилась она, я уж был готов ко всему. Развели мы на ночь костер, я пошел воду набрать. Подкрался тихо, слышу, договариваются меня прикончить, Я сзади убил одного с первого удара. Второй бросился в лес, но я его догнал и за ключицу ему весь нож засунул. Долго потом до жилья добирался.
Варяг уныло опустил голову и задумался. Потом снова угрюмо заговорил:
— Что говорить о тех, что в побегушке? Это менты выращивают людоедов. Недавно я был в крытке[10]. Там менты специально смешивают масти. Кинули меня к сукам. Их пять человек в камере. Годами живут на фунте хлеба, им хлеб ночью снится. Сразу же предложили на кровь играть — я эти игрушки знаю. Нацеживают стакан крови, варят, а потом жуют. На ихних картах я, конечно, играть не стал. Вскочил я на койку, что у окна, и стал майку снимать. Они сразу бросились к двери, а там уже менты стояли наготове. Пока я разбил стекла, пока обернул их майкой, чтобы руки не порезать, они уже выбежали в коридор. Меня к другим перевели. Что от них ждать в побегушке?
— Но ведь было же время, — возразил я, — когда содержали в лагерях хорошо. Зэки говорят, что после амнистии пятьдесят третьего года в лагерях все было. И еще больше пакостей было. И лагеря росли.
— Что так, что эдак, — согласился Варяг. — Говорю тебе, крысы. Тут уж ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь.
* * *Особая тема — гомосексуалисты в лагере. Много педерастов приходит на строгий режим со свободы, с общих режимов, молодых совращают старые лагерники — на это есть тысячи изощреннейших и премерзких способов, но основной путь — это когда насилуют за нарушение лагерной этики. Так наказывают, если не отдают проигранное в карты или за воровство. Кража на строгом и особом режиме — явление крайне редкое. И уж если случается, что пропадет какая-нибудь безделица — что еще может пропасть у зэка? — то вора находят с непостижимой быстротой. Первый раз его жестоко избивают, а если он попадается второй раз, то насилуют, и тогда он становится лагерной шлюхой. Жизнь педераста в лагере поистине ужасна. Ему не разрешают есть из общей посуды, считается тягчайшим позором пить из одной кружки с ним. Его часто бьют, зачастую выгоняют спать из общей секции в грязный умывальник, оскорбляют — словом, более унизительного и мерзкого существования невозможно придумать.
Из-за молодых педерастов между лагерниками вспыхивает иногда вражда, старые же педерасты слоняются по лагерю, опустившиеся, непристойные и вонючие, предлагая себя за чай или сигареты. Те же, которые попали в касту «неприкасаемых» за провинность, с большим трудом привыкают к новому статусу, однако ничего поделать не могут.