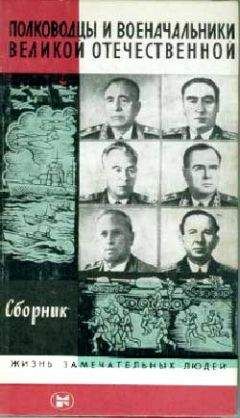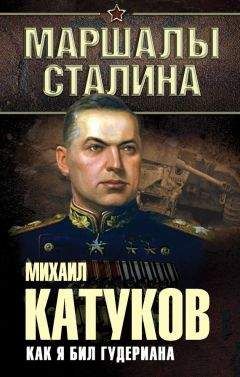Владислав Бахревский - Никон (сборник)
Вот и заплатил Хованский простому дьячку сто один рубль, себе в утешение.
2«Как черный вран на белоснежье», – подумал о себе Никон, окидывая взглядом белое лоно реки и безупречно белую шубу дикого леса по берегам.
Никон ушел на реку помолиться в одиночестве, но, давно уже привыкнув к келейной полутьме, он растерялся на великом белом свету. В келии душа стремится к солнцу, оставляя греховное тело в потемках. Теперь же, на белой земле, под ослепительным белым небом, он весь был пронизан невидимым человеку оком правды. Ни рукой от того ока не загородишься, ни мыслью праведной, лживой, юродивой – весь, весь на виду!
И убоялся царев святитель молитвы. Повернул назад, в село, где стояли царские послы.
Горько было Никону. Он вспомнил себя среди необъятных снегов Анзерского скита. Вся его жизнь в те дальние лета была истиной и всякое дыхание истиной же. Тогда он был простой чернец с душой невинного теленка: была трава – щипал, не было – ждал, когда вырастет.
Радость неискушенного покинула его в первый же день, когда, по приговору братии, был он избран в игумены Анзер. И чем выше возносила его жизнь, добытая прежним подвигом и чистотой, тем дальше он был от самого себя и от истины.
Нынешний чрезмерный пост, изнуряюще долгая молитва чудились ему сосудом Феофила. Киево-печерский чудотворец Феофил тридцать лет наполнял корчагу слезами, пролитыми на молитве. Старец собирался предстать с теми слезами перед Богом, но Бог отверг нарочитое. Перед смертью Феофилу явился ангел и показал ему другой благоуханный сосуд, много больше корчаги. В сосуде были слезы, пролитые Феофилом наземь ненароком.
Никон успел привыкнуть к власти, к изощренной роскоши архиерейской жизни, к толпам народа, ожидающим от него благодати, к ласке царя. К одному не мог приспособиться – к совести своей. Совесть в нем болела постоянно. Вся его теперешняя жизнь была не просто жизнью, но расчетом на новое возвышение. Молитва не ради молитвы, пост не ради поста, слово не ради слова, и сам Бог был для него только средством.
Чем настойчивее князь Хованский торопил посольство, тем медленнее оно двигалось, исполняя молитвенные деяния Никона. Дело было в том, что патриарх Иосиф совершенно одряхлел и выживал из ума.
Упаси боже, Никон и подумать себе не позволял о патриаршем месте, но он знал всей тайной духа своего, что это место предназначено ему. Надобно только не думать об этом и не торопить. Само время не торопить. И Никон медлил. Близилась весна, стало быть, и весенняя распутица, когда всякому движению конец на добрых два месяца.
Знал за собою Никон и еще один немалый грех. Ничего не мог поделать митрополит с живущим в нем мужиком Никитою. Мужик то и дело подталкивал владыческую длань митрополита совершить то и другое по его мужицкой прихоти. Рад был мужик потешиться над боярами, рад был видеть, что бояре-то такие же людишки, только хуже, хуже, ибо в каждом из них сатанинский конь норова, который лукав перед сильнейшим и беспощаден к зависимому.
Не ради умилостивания святого Филиппа, не ради служения господу держал Никон в аскетической строгости царское посольство, но ради мужика Никиты, на потеху ему.
Лукавство для монаха тяжелее вериг. Не посмел Никон молиться в уединении. Он верил в силу безупречной молитвы и боялся причинить несчастье молитвой, когда в сердце гнездятся неправда и корысть.
Вчера привезли Никону письмо от государя, веселое, ласковое. Величал государь митрополита великим солнцем сияющим, пресветлым богомольцем.
Прощения просил: «Не покручинься, господа ради… Без хитрости не писал к тебе. Да пожаловать бы тебе, великому святителю, помолиться, чтоб Господь Бог умножил лет живота дочери моей, а к тебе она, святителю, крепко ласкова; да за жену мою помолиться, чтоб, ради твоих молитв, разнес Бог с ребеночком; уже время спеет, а какой грех станется, и мне – ей! – пропасть с кручины. Бога ради, молись за нее…»
А молитва не удалась.
Вернулся Никон в село и сразу к Ваське Босому в ноги с покаянием. Юродивый, как птичка, легко выслушал, легко благословил.
– Собирайся в дорогу, владыко. Боярин как бы от гнева не расхворался. Вы собирайтесь, а я помолюсь. Мои какие сборы? Валенок и тех надевать не надо.
Что верно, то верно. И в северной стороне Васька ходил по снегу босиком.
3Под старческий голосок дважды треснувшего колокола маломочной местной церквушки вышел обоз в дорогу. Ребята вперемешку с собаками бежали за санями, строя рожи по неразумности и от веселости серьезным ездокам.
Местный поп, воодушевленный участием в столь великом государственном деле, не глядя на жестокий мороз, пел с дьячком и всем своим клиром псалмы, растрогав до слез митрополита.
Никон вышел из саней, облобызал попа, подарил ему серебряный нательный крестик и, благословив еще раз жителей и жилища их, приказал возницам погонять.
Лошади пошли ходко, покрываясь сизым инеем.
А Василий Босой в те поры молился в коровьем хлеву. Сладкая горесть билась в сердце его, и он плакал, как ребенок, и корова пожалела его и облизала шершавым мокрым языком. Васька принял коровью ласку и затих, забылся, но тут звонко заскрипели схваченные морозом половицы, и из сеней в хлев зашел стрелец Федька Агишев.
– Давно уж все уехали, – сказал. – В одиночку-то на волков быстро наедешь.
Васька Босой встал, погладил корову по теплой шее.
– Порадуй хозяев своим молочком обильным да телятами здоровыми.
Перекрестил корову.
– Ты бы лучше меня перекрестил, – хмыкнул Агишев, – у коровы все равно души нет.
– Тебя нельзя перекрестить, – сказал Васька, расплываясь идиотской нутряной улыбкой.
– Это почему же?! – ахнул Агишев, у него задергался левый глаз, и он закрыл его ладонью.
– Да вот нельзя! – сказал Васька и пробежал мимо стрельца, прихватив в сенях свой тулупчик, подбитый куницами, – подарок царя.
Федька Агишев поспешил за юродивым, но на крыльце задержался. Легкий посвист снега под Васькиными босыми ногами цапнул его кошачьей лапой по сердцу. Передернуло.
Лошадь у Агишева была добрая, но он сразу перепоясал ее кнутом и так погнал по разъезженной после обоза дороге, что лошадь скакала в оглоблях.
Мелькнуло белое поле, и пошел, пошел по сторонам северный лес, чахлый от тесноты, но бесконечный и непроходимый сразу же за дорогою.
Агишев, распаляясь какой-то неведомой злобой, истязал кнутом свою лошадку, и она неслась, как слепая. Сани плюхались в выбоины, кренились, раскатывались и шли боком. Стрелец покосился на своего ездока. Васька сидел как тряпичная кукла, сидел и улыбался все той же бессмысленной идиотской улыбкой.
Агишев, приметив впереди крутой спуск, не придержал лошадь, но снова ожег ее кнутом, да по брюху. Света невзвидя, лошадь рванула, Агишев выпустил из рук вожжи, рухнул с облучка на Ваську, и они вместе выпали из возка.