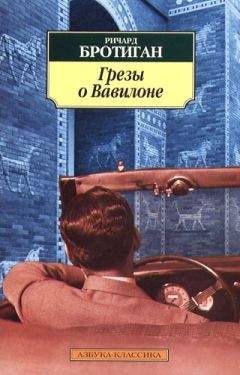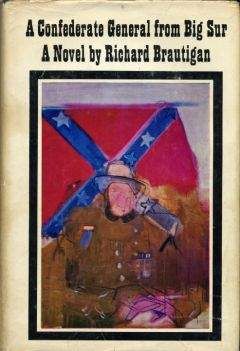Ианте Бротиган - Смерть не заразна
Поначалу я думала, будто пишу только ради того, чтобы восстановить для себя образ отца, собрать воедино его, хорошего, и его же, любителя выпить, превратившегося со временем в алкоголика. Но именно тогда, только на подступах к своей книге, я однажды вдруг поняла, что процесс работы над ней позволяет мне сделать свой выбор. Я не желала жить под тенью самоубийства, мне хотелось все вынуть на свет. И работа мне помогла, я сделала то, на что иначе никогда не решилась бы: например, отправиться на Северо-Запад, познакомиться с таинственной матерью моего отца, чьего имени он никогда не произносил вслух. В результате, в конце моих изысканий, отец снова стал для меня кем был при жизни — тем непростым человеком, которого я любила больше всех на свете. В результате изменился не образ отца, а я, получив от него в наследство всю его огромную жизнь.
Недавно я показала дочери отцовские открытки и письма, и она, глядя на них, задала два вопроса. Во-первых: «Мы что, всегда это будем хранить?» Мы, помнится, тогда были в гостиной, и я стояла на коленях перед всем этим разложенным на полу добром и как раз думала: в других семьях хранят старинную мебель или столовое серебро, а у нас старые бумаги. А потом дочь подняла на меня глаза и задала второй вопрос: «Тебе никогда не хотелось бежать от всего этого подальше?»
Элизабет тоже была спутницей моего путешествия в прошлое. Я писала самые тяжелые главы, когда ее не было дома, я научилась отвечать на вопросы ровным, недрогнувшим голосом. Научилась ради нее.
Моя книга — не учебник по исцелению душ, не руководство типа «Помоги себе сам» для тех, кому пришлось пережить самоубийство близкого человека. Все подобные руководства сама я выбросила давным-давно. Лично мне не помогли никакие пособия, разве что книга А. Альвареса и один краткий, но вдохновенный трактат, автор которого, как ни странно, баптистский священник. Все остальное, что я прочла, было написано из такого уж далека, с такой отстраненностью, будто бы авторы сами втайне испытывали страх перед смертью. А поскольку мне и без них было и страшно, и одиноко, то и читать их было незачем.
К концу работы над книгой я так и не нашла однозначных ответов на все мучившие меня вопросы, но зато поняла, что общих рецептов того, как справиться с горем, не существует и нужны лишь решимость и желание. Начала я писать не для того, чтобы снова начать выяснять, кто прав, кто виноват. Мне хотелось одного: разрушить ту тишину, какая окутывает самоубийство, и я это сделала. Однажды я получила письмо от одного весьма уважаемого поклонника отцовского таланта, с которым незадолго до этого встретилась на конференции, посвященной битникам. В письме ко мне он написал: «Короткая встреча и короткий разговор с вами помогли мне отчасти разгадать загадку Бротигана».
Вся моя книга обо мне. Это не биография отца. Жизнь отца не нуждается в комментариях. Все, что было в ней важного, осталось на страницах его книг. Это также не моя биография, не публичное обсуждение наших с ним отношений, не попытка рассказать «все» про знаменитого человека. Это просто воспоминания молодой женщины о самых горьких годах ее жизни, о том, что творилось у нее в душе, когда она решила разобраться в тайнах жизни и смерти отца.
Завершив работу, я отправилась туда, куда четырнадцать лет назад собирался уехать отец. Он собирался на свое ранчо в Монтану, в долину Парадиз-Велли. Однако так никуда и не уехал. Потом, после его смерти, я долго и думать не могла о Монтане. Даже когда уже все было написано, казалось, вернуться туда еще раз я не смогу. Я ее боялась. Но однажды, в одно осеннее, прекрасное утро, вскоре после окончания книги, мне пришло письмо из Монтаны от давней подруги по имени Лекси Коун Марш. В письмо были вложены фотографии с великолепными горными видами и с лошадью Лекси. И, взглянув на снимки, я вдруг поняла, что мне непременно нужно все это увидеть. Я взяла билет на самолет и улетела. То, что раньше казалось невозможным, вдруг стало обыкновенным делом.
Я прилетела в Бозмен, там переночевала, а утром взяла в прокате автомобиль и отправилась прямиком на ранчо. Кафе «Вкусно и быстро», где мы когда-то любили перекусить, исчезло, деревянный скрипучий мост, который раньше был рядом с палаточным лагерем «КОА»,[2] заменили новым, поближе к городу, но у меня все равно вдруг возникло такое чувство, будто дом наш остался каким и был, и если я туда сейчас заеду, то попаду внутрь. Интуиция меня не подвела. Ранчо мы незадолго до этого продали, новый владелец — очень приятный на вид человек — въехать еще не успел, но в тот день действительно был там, и все мне отпер, и разрешил войти. На стене в кухне еще видны были следы пуль, выпущенных когда-то во время хмельной пирушки. На другой стене, противоположной, где отец отмечал мой рост, остались карандашные черточки. До дырок от пуль я здесь так и не доросла. Потом я пошла в амбар и, одолев несколько лестничных маршей, поднялась на самый верх, в кабинет, где еще оставались те же светло-зеленые стены. В окне, засиженном мухами, по-прежнему открывался захватывавший дух вид на хребет Абсарока. Этого кабинета я никогда не любила и потому пробыла там недолго. Потом, когда приятный на вид человек, заперев все замки, уехал, я села перед амбаром на верхнюю ступеньку возле запертой двери и заплакала. Впервые я плакала по отцу, не обвиняя себя.
К гостинице «Пайн-Крик Лодж», где можно было позвонить из автомата, я подъехала, когда солнце уже начало опускаться за горизонт, и я стояла, и как завороженная смотрела сквозь стеклянные стенки на свет неба Монтаны, передать который сумел лишь один художник — Рассел Чатмен.[3] Я звонила Полу и Элизабет. Дочь сообщила, что в тот день делали в школе, а муж пожелал удачи. Потом я села в машину и отправилась к Мельничному ручью, к дому подружки Лекси. Именно в этот дом мы с отцом приехали покупать первую в моей жизни лошадь, когда мне было четырнадцать лет.
Два дня мы разговаривали допоздна — в первый вечер с Дин, сестрой Лекси, во второй с Лекси и ее мужем Джимом, — после чего я ложилась спать под шум бежавшего рядом с домом ручья. На третий день Лекси взяла меня помогать. Втроем с Джимом мы отогнали коров в Биллингс, к огромному зданию фермерского аукциона. Потом верхом отправились в горы. Лекси ехала на недавно объезженной кобыле, которая всего-то раза два ходила под седлом, а мне дали самого тихого, самого спокойного жеребца, какой только нашелся в конюшне. Я не садилась в седло с осени 1980 года, а на жеребце ехала вообще первый раз в жизни.
Горы, скрип седел, голос Лекси, когда она кричала на кобылу: «Давай же, давай, нечего валять дурака!» — все было как забытая музыка. Мы встретили койота, оленей и домашнего кота, который кого-то выслеживал в траве, потом отправились на верхнее пастбище проверить коров. Перед тем как возвращаться, Лекси велела мне размять жеребца. Я пустила его в галоп, и мы понеслись вниз по полю, протянувшемуся вдоль ирригационного канала, мимо рощицы на берегу. Листья были яркие, желтые, сквозь них струился теплый, мягкий предвечерний свет. Издалека слышен был голос Дин, которая увидела меня и крикнула, что вот он, мол, мой шанс полетать, и в какой-то момент мы действительно почти взлетели; и я ничего не боялась.