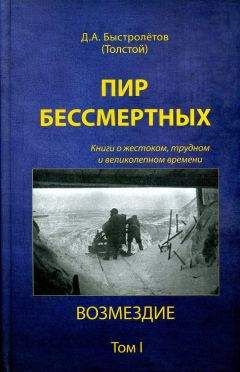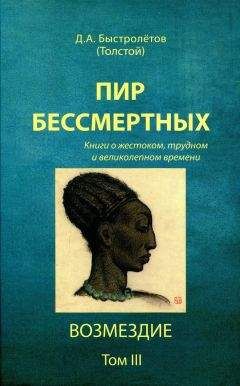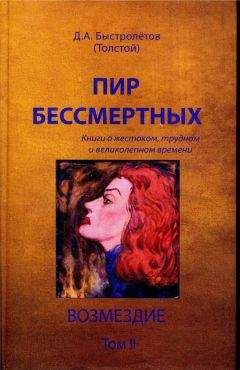Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 4
Я не могу и не хочу описывать всё, что видел и вижу. Наши грандиозные достижения бесспорны, они исчерпывающе отражены нашей печатью и по достоинству оценены за рубежом. Сидеть у себя в комнатке и пытаться воссоздать величественную и всестороннюю картину советской жизни в целом мне, старому, больному и очень занятому человеку, честное слово, не к лицу — я не хочу быть смешным, ломиться в открытые двери и пересказывать всем известное.
Тому, что в муках и лишениях добыл наш народ, слава во веки веков!
Но, оставив в стороне широчайшие общественные горизонты советской действительности, мне хочется на своём личном примере показать то, что у нас старательно замалчивается, — неустроенность и неустойчивость нашей общественной жизни из-за недоведённого до конца разоблачения сталинизма и отказа от ее коренной перестройки и оздоровления. Выяснилось, что идти вперёд не удастся, а значит, приходится неизбежно пятиться назад к Сталину, потому что возврат к Ленину в советских условиях уже невозможен, государственной и партийной бюрократии он не выгоден, наследники Сталина этого не позволят. Это и понятно: нельзя уничтожить идеологическую надстройку, пока существует питающее её материальное и социальное основание.
Хрущёв, замахнувшийся на сталинизм и сам оставшийся типичным сталинцем, был плохим марксистом: вынести Сталина из советского мавзолея можно только вместе с его наследниками.
Хрущёвщине и посвящается последняя книга моих воспоминаний. С нею будет исчерпана вся тема, и с чувством выполненного долга я смогу затем поставить последнюю точку.
Глава 1. Заживо погребенные встают из могил
Когда два надзирателя, укутанные в меха и похожие поэтому на ставших на дыбы медведей, распахнули широкие лагерные ворота, то вконец замёрзшим новоиспечённым гражданам Советского Союза представился нерадостный вид — унылые сугробы, с которых пронизывающая позёмка сдула снежок и обнажила намёрзшую тускло-ледяную корку. Лишь кое-где из неё торчали тонкие обледенелые прутья кустов с ещё сохранившимися чёрными листочками, трепетавшими на ветру. И всё. Это была воля.
Возчики звонко хлестнули кнутами и законно отматерились; покрытые инеем низкорослые лошадки дёрнули, и сани пересекли заветную черту. Это мгновение каждый из освобождённых ожидал годы и десятки лет, оно настало, и — я готов поклясться! — никто даже и не заметил заветного перехода от неволи к свободному состоянию: каждый был занят заботами и тревогами наступившего дня.
Накануне, празднуя освобождение, я заготовил несколько фраз, которые должен был продекламировать себе самому в столь торжественный момент, — красивые и суровые слова клятвы. Но затем съел килограмм сметаны — позволил себе такую роскошь, хотя и на горе: живот вздуло, и сквозь вой ветра я явственно слышал зловещее урчание под телогрейкой и в момент, когда покрытые одеялами сани со скрипом проезжали ворота, подумал только: «Хоть бы дотерпеть до станции: там есть уборная».
Нас нагрузили навалом, и чьи-то ботинки больно давили мой бок. Кто-то под одеялами просипел: «А ложки мы забыли? Надо бы выбросить их, по поверью, а то вернёмся!» — «Холодно, руки мёрзнут. А насчёт возвращения — это не наше дело — понадобимся, вернут с ложками или без них». И всё. До вокзала все молчали, погруженные в свои думы.
Никакой радости ни у кого не было.
На станции надзиратель сорвал с пяти саней одеяла и дважды пересчитал их.
— По три одеяла на сани, возчики, видели? Пропьёте — отберу пропуска. Слышали? Ну, ехайте домой.
В переполненном зале ожидания он нас выстроил и вручил документы и деньги. Кругом плакали дети, орали пьяные, храпели уставшие насмерть старики и старухи, где-то подростки затеяли драку. У нас кружилась голова. Кто-то несмело, но с надеждой пискнул:
— Гражданин надзиратель!
— Товарищ.
— Товарищ надзиратель, а нельзя ли вернуться?
— Куда?
— В лагерь. Вот весной бы, по самому теплу, и поехали бы по домам.
Надзиратель оскалил зубы в недоброй усмешке.
— Нет, браток, теперь казённые хлеба кончились. В лагере хлеб и кашу с маслом вы не жрёте, а тут свобода вам быстро мозги вправит, понял? Каждую корочку надо тут заработать — больше хлеборезки не будет! Идите, получайте билеты по литерам!
— А где?
— Узнаете. Я вольных не обслуживаю.
Он резко повернулся и вышел в большую дверь. В беспокойной толпе мы остались одни.
— Бросил, гад…
— Да. Как щенят… Подлец!
На восемнадцатом году размеренной жизни, отрегулированной положением о лагерях, страшно и мучительно вдруг очутиться лицом к лицу с тем, чего мы были лишены столько лет, — с инициативой: первое ощущение свободы оказалось ощущением необходимости действовать по своей воле. Мы стали в очередь. Не в ту… Нашли другую… Стояли два часа… Оказалось, нужна печать дежурного по вокзалу… Какого? Нашли… Его нет, придёт через два часа… И так далее, без конца, ибо конец всякой жизни — смерть, а мы были новорождёнными.
Среди чёрных куч людей мы тоже повалились одной кучей.
Молчание.
— А сейчас раздают ужин, — проронил сдавленным голосом один.
— Нет, наш барак пойдёт после четвёртого.
— Тот уже взял. Сейчас мы…
Молчание.
— Кто это «мы»? Мы — отрезанный ломоть.
— Сейчас едят они — те, кто за забором. Наше дело телячье — лежать здесь.
— Да… Сегодня будут раздавать селёдку. Вчера завезли бочки. Я видел, они стояли около кухни.
Все проглотили слюни.
— Я не прочь бы сейчас одну…
— Со свежим хлебцем… Ещё тёплым…
— Да… В заключении я селёдку не ел, а тут, на воле, слюнки пускаю… Полон рот… Удивительно!
Первый день свободы оказался днём мучительной растерянности, трудного отрыва от прошлого и насильственной перестройки и приспособления к новым формам существования.
Мы сели в жёсткие вагоны дальнего следования — чистые, светлые, блестящие. Пассажиров мало. Я и Рудов доплатили и получили лежачие места с матрасом и бельём. Легли. Настала ночь — первая ночь на воле под мерный стук колес, уносящих нас на запад. Я разделся и накрылся подкрахмаленной белой простыней и чистым одеялом. Свершалась мечта — я уезжаю из Сибири! Я проводил рукой по простыне и одеялу, желая вызвать в себе ощущение восторга, бурной радости, упоения.
Но ничего этого не было.
Меня переполняла тревога. Куда я еду? Что со мной будет? Как меня встретят люди, которые меня не знают и, вероятно, знать не хотят? Что будет дальше? Ведь я не могу работать… Я не могу содержать себя, кормить, обувать и одевать, найти комнату и заработать деньги для её оплаты… И ещё: я не полноправный гражданин, а лишенец — куда ни сунусь, всюду будет отказ! Работу лекпома мог бы иметь в Омском инвалидном приюте, но Анечка сорвала меня с места, плохого, но обеспеченного, и, главное, самостоятельного и независимого. Теперь моя жизнь зависит только от неё… А если она совсем не приедет в Москву? У меня мороз пробежал по коже… Если меня не примут Лина и ее муж? Если Анечка задержится, а Лине с мужем надоест моё присутствие? Куда мне идти тогда?