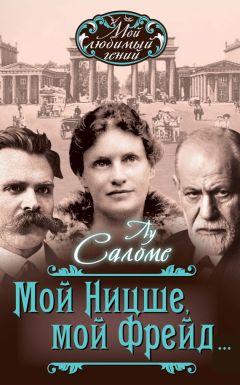Игорь Талалаевский - Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта
Ах, как странно это спрашивать! Что может делать человек во время катастрофы, разбившей все его существование? И как научить его сделать что-то гармоническое, стройное, годное к жизни, из элементов его горя!..
Конечно, я говорю тебе: «Уйди» — не на радость себе и не думаю, что с твоим уходом «все устроится прекрасно». Я говорю тебе «уйди» в отчаянии и остаюсь в отчаянии. И знаю, что если опять позову тебя и ты придешь, — не будет ничего ни нового, ни хорошего, и вновь начнется бесконечная мука. И я уже не могу желать, чтобы длились эти мучения встреч. Даже самые горькие наши встречи имели смысл, пока что-то выяснялось; а в душе вопреки всему жила у меня надежда, которую ты сам вызвал к жизни, и я думала: «Нет, он сказал мне — не верь, если я даже буду говорить, что не люблю тебя, потому что мы не мажем расстаться, — я это узнал навсегда, как единственную правду о нас». Но теперь?.. Какие у меня могут быть надежды, если ты говоришь с безжалостной правдивостью: «Да, я люблю ее, а не тебя». И поверив этому ужасу, как могу я на нем построить хотя что-либо с тобой?!
Милый мой, ведь есть же минимум желаний и требований, без удовлетворения которых жизнь одного из двух становится каким-то сплошным поруганьем и униженьем. Ты знаешь это, — ведь ты же все время старался, чтобы было хорошо ей, а это значило давать ей то или иное. Мои желания и требования сократились до последних границ, за которыми уже мне только оставалось увидать, что ты мне ничего не хочешь дать. Я говорила тебе о том немногом, что нужно мне для жизни. Ты ответил просто и ясно: «Я не могу тебе дать даже этого немногого». — Что же остается мне? Опять просить, ждать, умолять, биться о каменную стену? Нет, нам говорить о какой-либо «нашей» жизни уже невозможно. Я все сказала, все, все!.. Теперь осталось бы повторять.
И я говорю тебе «уйди» для тебя и для себя. Тебя это избавит от тяжелых свиданий и разговоров. Мне твой уход выяснит все, что должна я сделать. Пока ты «как-то» еще, но все же приходишь и я хотя в 2 недели раз слышу твой голос, у меня, конечно, невольно создается ощущение, что ты еще здесь, еше «как-то», но со мной. Без тебя совсем, когда затихнут твои шаги и голос, когда не останется даже наших призрачных «дел», когда опустится надо мной полная тьма, когда одиночество из всех сил сдавит сердце, я смогу умереть. О, я ничего не жду, никаких утешений. И у меня не было оставлено «хода на случай», как у тебя и Б. Н. (Белый. — И. Т.). Моя гибель несомненна, — я думаю, это тебе даже виднее, чем мне. Без тебя у меня кончается всякая связь с живой жизнью и людьми, без тебя я лишена даже единственного утешения — способности работать. Я не выйду никуда из зеленой комнаты, а долго ли можно прострадать так, — это решится само собой. Ах, верь только, Валерий, что я не говорю ни одного преувеличенного слова.
Ты же знаешь обо мне все, и ты знаешь также, что бывает с душой, у которой действительно отняли то, чем она была жива. Я не хочу твоей жалости, я не хочу, чтобы ты делал для меня хотя что-нибудь, сцепя зубы, без сердца. Да «что-нибудь» от тебя я взять не могу. Потому оставь меня, предоставь меня моему горю, гибели и судьбе. И не бойся, я не позову тебя. Мне незачем больше звать тебя. Я знаю теперь правду и против рока идти не могу. А позвать тебя для встречи, какой была последняя, — даже для такой встречи не могла бы позвать я тебя, потому что мне больше нечего узнавать и «выяснять». Бог знает, как люблю я тебя, милый, милый Валерий… Во всякий час твоей тихой радости или работы или скучных обязанностей, во все часы, дни и месяцы, пока я буду жива, я буду томиться мечтой возле тебя. Я никогда уже не утешусь, и не буду даже искать утешений. Я смотрю прямо в стеклянные глаза моей погибели и знаю, что она меня не минует. Ведь теперь я остаюсь всецело «с ним». Душу мою и тело с полным сознаньем предаю его губительной власти. И только думаю — Боже мой, зачем я узнала тебя!.. У меня было все, чтобы жить, у меня были возможности жить достойно, а я валяюсь на земле, как раздавленный твоей ногой червяк!. Мне так тяжело, Валерий, я едва кончаю письмо. Прощай же, мой дорогой, милый, единственный! Прощай, моя жизнь, моя душа, моя единая, вечная любовь. Я становлюсь перед тобой на колени и благодарю тебя за все доброе и жестокое равно. Благодарю тебя за жизнь и за смерть, за то, что ты был со мной, за то, что через тебя я познала настоящую любовь. Простись со мной и ты нежно. Я почувствую твою отдаленную нежность острее, чем самый страстный поцелуй. Прости меня! Прости все твоей бывшей Ренате…
13 февраля 1911 г. Москва.
…Ты говоришь, что я написала все то, «о чем не раз уже говорила тебе». Что иное могла бы сказать я? Да и не считала я сама мои слова «новыми». В том письме я прощалась с тобой. Прощалась сознательно, не хотела, чтобы ты думал, будто я решаюсь на это «в исступленьи». Новое было в твоем признанья или, лучше сказать, в прямоте твоего признанья. Я не могла не догадываться, что ты чувствуешь, как тогда прямо сказал: «Слепо, инстинктивно, безрассудно привязан к ней» и «Тебя не люблю уже давно». Но ты почему-то на все мои мольбы сказать, наконец, правду, не украшая ее, как фоб цветами, сказать со всей жестокой откровенностью, — всегда отвечал схоластически, подменивая имена, ускользая, прячась за ничего не значащими, но в то же время такими словами, которые еще не отнимали последней возможности как-то быть около тебя и желать удержать тебя в своей жизни. О, Валерий, за одно укоряю я тебя с великой скорбью, с печалью и жалостью к самой себе, напрасно погубившей около тебя хорошую достойную жизнь, которой, может быть, еще нашлось бы место на земле, — я укоряю тебя за то, что не сказал ты этого так же давно, как почувствовал. Только эти две фразы, произнесенные тобой в четверг, в любой миг оборвали бы все нити, связывающие нас, тотчас бы перерезали, как ножом по живому телу, все, все! Клянусь тебе, что это правда! Я умоляла тебя: скажи, скажи прямо: «Я люблю ее и не люблю тебя», — ведь я ушла бы, не оглянувшись, от этих слов в сердце мгновенно умерли бы, как сейчас, как в ту минуту, что ты их произнес, — все надежды, все возможности, вся вера и вся жизнь, и будущее, и настоящее с тобой. Ты сказал их слишком поздно. Из эгоизма, из сознанья, что «все же без нее я почувствую, может быть, какой-то минус», ты держал меня. Да, да, держал, я утверждаю это! Об этом говорит все прошлое: гнал и возвращал, осторожно подыскивал слова, чтобы они выражали и твои настоящие чувства, и позволяли мне еще во что-то верить, обманывать себя иллюзией, что у тебя все же есть ко мне нечто такое, чем стоит дорожить. Ну, Бог тебе в этом судья! Верно, душа у тебя такая — темная даже перед самим собой, вероломная и себялюбивая прежде всего…. Благодарю тебя и зато, что ты, утруждая себя, написал слова, много раз тобой сказанные. Да, я поняла… «Cura… Amor» (забота… любовь, (лат). — И. Т.)… Прекрасные отвлеченные термины для того, что ты выразил уже яснее и проще: «Люблю ее, любовью темной, инстинктивной, слепой, и не люблю тебя». На все это письмо твое могу ответить опять же прежними словами, ибо других у меня нет и не будет: «Я приняла бы всякие горькие для меня перемены, всю жестокость этих перемен и с благодарностью брала бы самое малое, если бы знала, что ты таков теперь вообще, что таковы твои чувства вообще, что ни к кому другому ты не можешь чувствовать большего и что никого другого, получающего от тебя страстно желаемое мною, — у тебя нет. Ах, Валерий, да разве при долгих многолетних связях говорят друг другу люди о своих переменах друг к другу!» Нет, они, любя прежде страстно, потом вместе и одновременно меняются. Их чувства вступают в иные фазы, может быть, не менее прекрасные, чем пережитые, их души срастаются, и у их взаимных чувств создается помимо их воли бессмертная душа, которую нельзя убить. И все это, при условии любви в прошлом и настоящем (хотя бы давно ставшей только «Ашогош») совершается гармонично, ясно, безбольно. Так любили друг друга мои отец и мать — двадцать лет неизменно, хотя менялись они оба, менялись дни, возрасты, вкусы, желанья…. И так ты любишь твою жену… Ведь не влюблен же ты после 15-й лет брака? Нет, ты не влюблен, — а любишь. Любил, и любишь, и будешь любить, весь изжененный, потому что настоящая любовь бесстрашно, и ничего не утратив в существе своем, пройдет целый ряд превращений. Меня же ты не любишь и, верно, никогда не любил, и обманулась я, приняв влюбленность и страсть — минутность, игру чувства, — за любовь. Виноват ли ты? О, конечно, в этож ты не виновен. И грех твой, тяжкий, неискупимый грех передо мной и перед Духом Святым, — не в том. Ты «соблазнил» меня самым страшным и прекрасным соблазном, единственным для моей души, — обещанием любви. И зная, зная наверное, что любви у тебя нет, говорил, что она есть, и манил, и обещал, и вел все ниже, ниже по длинному ряду ступеней, пока не привел к стене, в полный мрак, в безнадежность, в яму, где наконец сказал, что обязан был сказать еще много лет назад, и оставил одну. Последний раз ты говорил мне с брезгливостью, с пренебреженьем, с мелочной досадой: «Ты целый час мне говоришь о своих страданиях, ведь так никаких нервов не хватит». А если бы ты действительно представил все, что ты со мной сделал, может быть, ты не произнес таких злых, дурных слов.