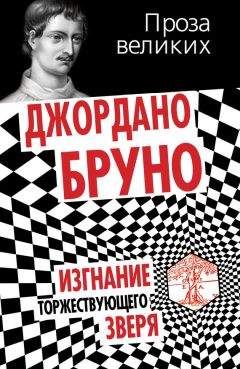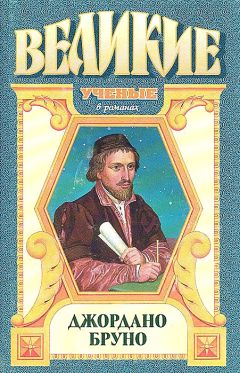Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
В ней не было лекарств — одна камфара, которую назначали всем за неимением прочего. Кругом со стонами и молча умирали люди. Ее, ввиду ее молодости, хоть положили на кровать — другие лежали на полу, и врачи, делавшие ночной обход, перешагивали через тела и светили фонариками: живы они еще или уже отдали Богу душу. Пахло гнилью, разложением тела: в палате лежал и медленно умирал больной с гангреной легкого и, пока дышал, отравлял воздух не только палаты, но и коридора — врачи и сестры, заходя к ним, зажимали носы и спешили поскорей убраться. Рене лежала здесь в беспамятстве и в короткие промежутки просветления думала о том, что имеет право лечиться в военном госпитале — по меньшей мере как жена офицера, не вспоминая уже о ее собственных заслугах перед Отечеством. Но у нее не было ни сил, ни желания жаловаться: ей казалось, что, заикнись об этом, она расплещет последний запас сил и телесной прочности, который был нужен ей, чтоб еще раз увидеть сына: других причин жить у нее уже не было. Яков ни разу не пришел к ней: был слишком занят — так же, как в случае с собственной матерью: она и ее вспомнила и посочувствовала ей, хотя ни разу ее не видела…
Выручил ее полковник Дунаевский. Это был старый знакомый Якова, человек, известный, между прочим, тем, что его за какую-то политическую оплошность публично обругал Ленин — с тех пор эта ругань постоянно цитировалась в учебниках истории как «ответ Дунаевскому», а сам он должен был всю жизнь бить себя в грудь и каяться, потому что если его спрашивали, тот ли он Дунаевский, он не мог сказать просто: «Да, тот самый» — надо было еще раз признать свою ошибку, иначе могли подумать, что он ею хвастает. Так вот, этот самый вечный грешник и каяльщик Дунаевский зашел как-то к Якову, начал расспрашивать, как идут дела, с удивлением узнал, что Элли в больнице, — уже с большей тревогой спросил, чем она больна и где лежит, и когда Яков поневоле ответил на все эти вопросы, воззрился на него, непомерно удивился, решил, что Яков большой ребенок, не умеющий постоять за себя и за своих близких, сел за телефон, обзвонил всех кого мог и говорил при этом примерно следующее:
— Вы знаете, кто лежит в вашей больнице? Нет?! Герой испанской войны, сидевшая за одним столом с самим Франко! Человек, уничтоживший архив с опаснейшими документами в Шанхае, когда там провалилась наша резидентура!..
Напрасно Яков дергал его за рукава мундира и призывал к сдержанности: в пылу разоблачений тот выбалтывал тайны Разведупра — все напрасно: того несло как на парах, как с горы на лыжах. Десяток таких звонков — не прошло и часу, как Элли вывезли в военный госпиталь и дали ей отдельную палату: лучше бы не устроили самого Якова. Тот не выговорил и слова в благодарность и выглядел смущенным. Дунаевский и это отнес за счет его практической беспомощности и безрукости:
— Ну Яков, ты меня удивил. Надо, конечно, быть коммунистом, но не в такой же степени!..
Тиф и в военном госпитале оставался тифом, но здесь хоть лечили. Рене в течение двух месяцев лихорадила выше тридцати девяти, но дело пошло на поправку. Яков посещал ее: его отсутствие не прошло бы здесь незамеченным — здесь царили нравы небольшого военного гарнизона, где все про всех знают, но потом перестал ходить и сюда: передачи носила теперь Жоржетта. Рене недоумевала по этому поводу, спрашивала мать, а та только отмалчивалась, будто перестала понимать и французский тоже. Многоопытная женщина-врач, лечившая ее, сказала: «Элли, тут не обошлось без женщины»; она ей не поверила. Через два месяца она вернулась домой: исхудавшая, неузнаваемая, с большими глазами на осунувшемся, провалившемся лице, с короткими, не успевшими отрасти волосами: в первой больнице всех стригли наголо, потому что иначе нельзя было справиться со вшами. Сын, увидев ее, бросился ей навстречу, вцепился детскими ручонками, закричал яростно и ликующе: — «Мама пришла! Мама!», и в ней словно что-то перевернулось: крик пронзил ее сердце радостью. Зато вечером ее ждало предсказанное ей испытание: докторша оказалась провидицей…
Яков, не откладывая дела в долгий ящик, завел разговор и сообщил ей, что у него есть женщина и что он намерен к ней уйти; он не может обманывать Рене и должен обо всем сказать честно и открыто, как подобает коммунисту. Он все решил и обдумал. Инна должна остаться в семье, потому что уже привыкла к ней и было бы жестоко вырывать ее отсюда. Из его рассуждений выходило, что он совершает едва ли не благородный поступок — во всяком случае единственно возможный в создавшейся ситуации, и конечно же никого не забыл и обо всех позаботился. Она вспомнила шанхайский «подвох», о котором почти забыла, — разные звенья в их общей жизни сложились в одну цепь, и она отныне потеряла веру в проповедуемые им принципы: они в быту сплошь и рядом оказывались дымовой завесой и ширмой для поступков совсем иного рода. Ее занимал лишь один вопрос: понимает ли он это сам или остается уверен в своей правоте и непогрешимости.
— Я теперь понимаю, почему ты спровадил меня в общую больницу, — сказала она. — Интересно: ты сделал это сознательно или у тебя это все выходит само собой? По марксистскому наитию?
Он ожесточился, нахмурился: не мог дать в обиду ни свои принципы, ни святость своего учения.
— А это здесь при чем? Это наша личная жизнь — при чем тут марксизм?
— При том, что ты сам все время путаешь одно с другим и пускаешь пыль в глаза. — Он разозлился еще больше, но объявленный им уход из дома не давал ему той свободы воли, что была у него прежде, она же неистовствовала все сильнее: — Я теперь не только это понимаю, но и то, почему вы сами себя уничтожаете! Это у вас в крови: вы не успокоитесь, пока не пережрете друг друга! — Ей и вправду показалось в эту минуту, что он с его жестокостью, странным образом сочетавшейся с личным мужеством и преданностью делу, олицетворяет свою эпоху, тоже состоящую из непонятной ей смеси ненависти и самопожертвования.
Он ничего из этого не понял.
— Кто это мы?.. И что ты говоришь вообще? Что за дикость?.. Это у тебя после тифа — тебе еще лечиться от него и лечиться… Но это ничего не меняет. Я ухожу к другой — это дело решенное…
Началась тяжелая полоса в ее жизни. Женщина, о которой он говорил, была преподавательницей на его кафедре. О случившемся быстро узнали в Академии. Народ там, как и везде в те годы, был в общем славный: отношение к ним у всех было одинаковое — Якова осуждали, а Элли жалели: все знали ее прошлое, высоко ценили и уважали, но помочь не могли: да и как поможешь в таком деле?
Яков окончательно не уходил, но то и дело не ночевал дома и повторял, как заклинание, что его уход — дело решенное. Она сама бы от него ушла, но ей казалось, что это у него случайное, временное, что он сам не знает, чего хочет, и вправду похож на большого и испорченного ребенка. «Ему нужна женщина-нянька, — думала она, — а я сама от него завишу, повисла на нем тяжким грузом и не могу оторваться, потому что он для меня словно мост из моей прежней жизни» (мужчины все представлялись ей мостами из одной жизни в другую). «Или же ему нужна большая, крупная и красивая женщина, которая бы не вмешивалась в его работу, а жила бы сама по себе, а я с самого начала в нее влезла.» Так она думала или нет, но со своей стороны ничего не предпринимала, крепилась, поправлялась после болезни, ни к кому не обращалась за помощью, повторяла судьбу своей матери и ждала, что будет дальше, но знала уже, что стена, на которую она рассчитывала, когда выходила за него замуж, обернулась к ней противоположной стороною: она снова оказалась взаперти на собственной улице.