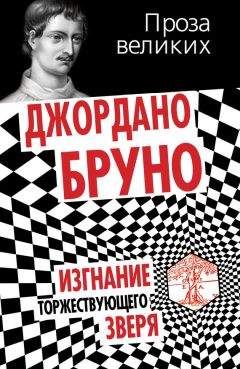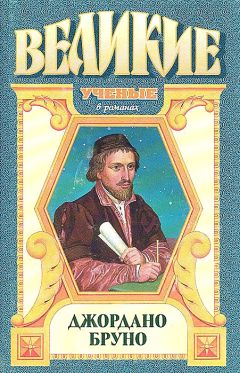Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
На Кавказе их настигла весть об аресте первой жены Якова. Она была осуждена со всем штатом министерства, в котором работала секретарем замминистра. Надо было брать к себе их общую дочь десятилетнюю Инну, которую Яков много лет не видел, а Рене не знала вовсе. Вместе с Инной в доме поселилось нечто неизбывно грустное, неприветливое и исполненное внутреннего и скрытного непокорства. Отец дочерью почти не занимался: он с новыми силами включился в работу поредевшего, но продолжавшего работать Управления: организовывал зарубежные поездки, готовил к ним разведчиков. Сам он после своего провала стал невыездным: русское происхождение его не было доказано в ходе судебного процесса, но подтвердилось громким, прошумевшим на весь мир обменом — он стал работать на засылке других, и это отнимало теперь все его время. Элли пыталась установить дружбу с его дочерью и войти к ней в доверие, но это у нее не получалось: Инна считала ее виновницей разрыва отца с матерью и всех бед, за этим последовавших. Последовательность и очередность событий этому противоречили, но дети хронологии не признают, прошлое у них путается с настоящим — вернее, есть одно настоящее, которое целиком занимает их воображение и порождает вымышленное толкование прошлого. Инна страдала из-за отсутствия матери и не привыкала к новому дому, а Элли так и не могла всю жизнь понять, она ли виновата в отсутствии душевной связи с приемной дочерью или упрямое нежелание той войти в дом, в котором она чувствовала себя постоялкой и приживалкой. Подружилась Инна только с Жанной, которая нашла путь к ее сердцу. У них были схожие судьбы, обе остались по воле судьбы без одного из родителей, а Жанна отличалась еще и способностью вникать в чужие беды и обстоятельства — она сочувствовала сводной сестре, а той это было всего нужнее. Если бы Элли меньше старалась подбодрить и развеселить Инну и представить дело так, будто все идет как нельзя лучше (чем только озлобляла и восстанавливала ее против себя), а просто посидела б с ней да поплакала, толку было б больше, но Элли не умела и не любила плакать.
Яков, как было сказано, был в стороне от всего этого: он словно не замечал домашних трудностей. Отчасти это было связано с его нежеланием говорить о том, что привело к ним Инну. Он ни с кем не хотел обсуждать массовых посадок: коротко и сухо говорил, что совершено много ошибок, что, когда рубят лес, летят щепки, и тут же переводил разговор на другую тему, всем видом своим показывая, что не намерен говорить о репрессиях, — не потому, что это чем-то грозит ему, а потому, что вредит интересам партии: он оставался тем же пламенным большевиком, что и раньше — с небольшими поправками на возраст и на эпоху. Элли была иного мнения на этот счет. События последних двух лет, неразбериха в Управлении, воцарившаяся там после избиения руководящих кадров, ее бесцельная поездка в Испанию, которая разочаровала ее, хотя и принесла ей орден Ленина: все это склоняло ее, пусть не к дезертирству, но, говоря мягче, к перемене профессии.
Яков уговаривал ее остаться и говорил, что она, с ее опытом и умением находить неожиданные выходы из нештатных ситуаций, может принести Управлению много пользы, — ей было всякий раз не по себе, когда он повторял это. Она была из другого теста, чем он: русская рулетка, с ее выстрелами на «авось»: сойдется-не-сойдется — была ей неинтересна. Она видела, как мужественные и талантливые люди, которых она знала за рубежом, возвращались и терпеливо ждали своей участи: попадет ли в них тот самый выстрел, или окажется холостым, или пронесется мимо, что, учитывая размах трагедии, напоминало массовое самоубийство китов, выбрасывающихся на берег и оставляющих на нем свои туши. Так далеко ее коллективизм не распространялся: в ней сидели посеянные в ином месте семена проклинаемого здесь индивидуализма, побуждавшего относиться к собственной и к чужим жизням с большим уважением, чем это было принято в России, и это было даже не влияние католического духа, чуждого и коммунизму, и православию, а нечто более глубокое и древнее — остатки древнего анимизма предков, который живет во всяком сельском жителе и заставляет его почитать не только жизнь человека, но и любой живой твари — даже дерева. Она умела рисковать и могла умереть за идею: она доказала это прежней работой — но пасть от руки своих и неясно зачем было для нее ненужным излишеством.
Кроме того, к ней, как она считала, начали подбираться и подкапываться. На нее был «материал» в Управлении. Яков, имевший доступ ко всем папкам (почему-то и первого отдела), успокаивал ее, убеждал, что ей, с ее орденами и заслугами, нечего бояться, но он много что говорил, а она не всему уже верила — тем более, что он потом легко отступался от своих слов, говоря, что был в свое время недостаточно информирован. Во-первых (он сам это рассказал), в первом отделе лежало донесение, что она взяла на попечение «ребенка врага народа». Это было правдой, она не думала от нее отрекаться, но само то, что эту гадость не порвали и не выбросили, говорило о многом и не располагало к благодушию. Яков доказывал, что никто не имеет права уничтожать доносы: они копятся и остаются даже тогда, когда человека уже нет в живых, — но объяснение это ее не успокаивало, а напротив восстанавливало против подобных архивов и архивариусов. Кроме него был еще один сигнал — вовсе нелепый и дурацкий, но это его не обесценивало — напротив, делало лишь опаснее. Об этом можно рассказать особо, потому что, несмотря на свою незначительность и даже никчемность, он склонил ее к окончательному решению.
Дело было так. Вернувшись из Испании, она в первые недели, чтобы разрядиться, прийти в себя и нащупать изменившийся за год пульс общества, ходила по знакомым — старым и новым, не разбирая. Годом раньше в Сочи она познакомилась с дочерью одного из членов правительства и теперь дала о себе знать, позвонила, сказала, что снова в Москве: большего говорить не полагалось — и тут же была приглашена на блины и танцы. Дочь была как дочь, как все они: чувствовала себя, конечно, иной, чем все смертные, рангом повыше, но и не особенно задавалась и при близком знакомстве вела себя по-приятельски — с ней можно было разговаривать. Зато муж ее, зять министра, которого в Сочи не было (иначе она не пошла бы на вечеринку), был преотвратительной личностью. (Ей потом говорили, что в семьях «больших людей» надо остерегаться именно пришлых: их, если они не были завербованы раньше, стараются сделать осведомителями, но тогда, сразу после Испании, она думала, что вырвалась на волю и что следить за ней в России некому.) Зять был недоверчив и подозрителен, и из него так и лезла злость, которую он напрасно пытался замаскировать показным радушием и гостеприимством. К Элли он отнесся с нескрываемой неприязнью: она раздражала его как иностранка в особенности. Между тем он руководил застольем и добивался от всех веселья. Элли, когда на нее наседали, с ножом к горлу, с такими требованиями, делалась форменной букой и позволяла себе ядовитые замечания, которые, ясное дело, никому веселья не прибавляли. Он, имея в виду ее, настаивал, чтобы его гостьи не корчили из себя высоких дам, а пили и смотрели на «мужиков», как полагается «бабам». Что он имел в виду, говоря это, было неясно, но этими «бабами» он допек ее особенно. Она не терпела этого слова, не находила ему такого же и столь же часто употребляемого слова во французском — не до конца поэтому понимала, но чувствовала, что за ним кроется нечто обидное для русских женщин, с чем они, впрочем, довольно легко мирятся. Она буркнула в ответ, что смотрят так, как он хочет, на мужчин не «бабы», а уличные женщины и делают они это не из большой любви к ним, а по профессиональной необходимости, и их, кстати, не называют «бабами» — потому, наверно, что за них нужно платить и они хоть этим вызывают к себе уважение. Своими замечаниями и поправками она испортила ему всю игру и чуть не сорвала вечеринку. Дочь министра, услышав их перепалку, перепугалась, а ее муж напрягся в ожидании: его широкое блинообразное подозрительное лицо вспучилось от злости — но он прекратил спор, решив продолжить его в другом месте и иным способом. Результатом ссоры был донос, осевший в Управлении и обвинявший ее в пьянстве. Что скажете на это? Нашел в России пьяницу. Яков, с его слов, смеялся от души, читая эту ябеду, а ей было не до смеха. Подобная бумага в личном досье опасна самим своим существованием — тем, что всегда может быть при необходимости извлечена, и тогда доносы, написанные в разном ключе и разными перьями, складываются по воле составителя в одно изображение: так находят друг друга в детской игре кусочки разрезанной картинки. Уже сейчас можно было создать из двух частей целое: настолько спилась, что потеряла всякую бдительность и приютила «ребенка врага народа» (слова-то какие: к ним она никогда бы не смогла привыкнуть, а Яков произносил их без запинки и без зазрения совести). Ей не хотелось ждать третьего доноса, который бы утверждал, что ее завербовал Франко на встрече с чаепитием и она поэтому не сфотографировала висевшие на стенах карты с военными планами. Это была фантазия, но не слишком далекая от действительности: она наслышалась от своих немногочисленных друзей-французов, что ставилось в вину их арестованным соплеменникам.