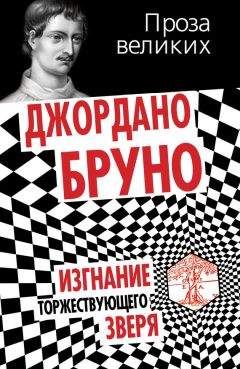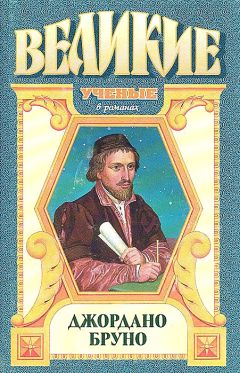Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
Дело было, конечно, не только в этом. Она встретилась с высшим эшелоном власти, и он в этот раз вызвал у нее чувство неприятия и духовного отторжения. У нее и раньше были замечания и сомнения на этот счет, но если еще два года назад руководители страны: те, которых она знала или видела — были чем-то ей близки и в целом ее удовлетворяли: своей образованностью, европейской культурой, широтой взглядов, способностью понять другого — то им на смену в результате чисток пришел иной народ: темный, раболепный, мстительный — может быть, по-своему и способный, но напрочь лишенный моральных устоев. В этом, собственно, и заключалась, догадывалась она, цель внешне бессмысленных репрессий: это была смена одного правящего класса другим, далеко не лучшим — последнего она не хотела иметь за своей спиной и доверять ему свое существование. Может быть, не все были там такими: может, в этом лесу была поражена болезнью треть или четверть деревьев, но атмосферу в нем они создавали удушливую и гулять в нем ей не хотелось. Поэтому когда ей через Якова передали предложение (которое он поддержал) готовиться к опасной поездке в Америку, она неожиданно для себя расплакалась (прощание с прежним делом и старыми товарищами далось ей тяжелее, чем она думала), но с твердостью отказалась. Яков был разочарован: как сотрудник Управления он жалел, что из него уходят ценные кадры, — особенно тогда, когда они были нужны особенно. Была еще одна причина, которую она предполагала, хотя не говорила о ней вслух: он был тщеславен, и ему было бы приятно, готовя новых гонцов за рубеж, говорить им, что он посылает туда не только чужих, но и самых близких ему людей; об этом и говорить было бы не нужно: все и без того об этом бы знали…
А может быть, он просто снова захотел от нее избавиться…
Но к русскому народу, которого она по-прежнему знала мало, но уже лучше чувствовала, она питала старые симпатии и хотела быть ему полезной. Поэтому она осталась в стране без большой горечи и сожаления. (Да и захоти она другого, ехать было некуда: ее родные были здесь, и границы обоих ее отечеств были для нее закрыты.) Она, как говорила старая и полюбившаяся ей французская поговорка, оказалась взаперти на улице.
Ее уволили в запас. На этом ее служба в Красной Армии закончилась.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В РОССИИ
1
Рене решила, что станет медиком. Между судьбой врача и революционера много общего: тем и другим движет сочувствие к ближнему, и многие революционеры, разочаровавшись в своем деле, пошли в доктора: чтоб приносить пользу людям, так сказать, из рук в руки, без посредников, которые все ставят с ног на голову. Военные тоже любят врачей — не только потому, что те спасают их в бою и после него, в госпиталях и лазаретах, но еще и оттого, что чувствуют в них родную жилку — людей, готовых стать в строй, едва зазвучит сигнал тревоги: у врачей есть даже мундиры — одинакового для всех белого цвета. Прежде Рене не имела дел с докторами и если испытывала влечение к их деятельности, то чисто умозрительное, платоническое, но в последнее время ей довелось общаться со специалистами, лечившими Жанну от туберкулеза, — в их кругу она почувствовала себя как дома: это были люди, близкие ей по духу и по призванию, — среди детских фтизиатров были тогда настоящие подвижники.
Кончился проклятый 1937 год, начался темный, неопределенный 38-й. Она готовилась к поступлению в 1 Московский медицинский институт, а пока что работала на радио, во французской редакции: писала тексты за рубеж и зачитывала их перед микрофоном. Она старалась писать достоверно, без хвастовства и свойственного пропаганде возвеличивания успехов и достижений, и говорила редакторам, что французы, в силу врожденной скептической наклонности, настораживаются, слыша похвальбу и славословие. Ей шли навстречу: на радио были тогда образованные люди — центробежная сила вращения смывала их с оси исторического колеса на более спокойную периферию — с тем, чтобы скинуть затем окончательно. У нее появилось время, чтобы заняться семьею: она, как Одиссей, вернулась к родному очагу после длительного путешествия. Теперь, впервые за много лет, она присмотрелась к матери: когда мы по-настоящему заняты, нам не хватает времени и для родителей. Жоржетта вела себя загадочно. Она неутомимо, как заведенная, с утра до вечера занималась домашним хозяйством, словно в нем был смысл и высшая задача ее жизни, говорила мало и почти ни о чем не спрашивала — если только не то, когда Рене придет домой и к какому часу, следовательно, готовить обед и ужин. Вид у нее был отчужденный и замкнутый, и Рене уже начала бояться, что мать недовольна тем, что ее привезли в Союз: у Рене в памяти стояли обидные слова отчима. Она спросила об этом мать. Жоржетта сначала не поняла, о чем идет речь, потом сказала с обидой, что вовсе так не думает, и даже сильно качнула головой: видно, представила себе в эту минуту жизнь во Франции с мужем-пьяницей. Но это не меняло сути дела: с Рене у нее не было душевной близости — она как бы выветрилась за время долгой разлуки. Мать относилась к ней не как к старшей дочери, а как существу иного и высшего порядка: это началось раньше, когда Рене поступила в лицей, и утвердилось, когда занялась большой политикой и связалась с непонятными ей русскими. На нее в свое время сильно повлиял приход в дом полиции, обыскавшей дом и спрашивавшей о дочери: страх способен в одночасье изменить самые сильные наши чувства. И Рене не могла забыть, как мать, подкараулив ее на улице, с рыданиями упрашивала не идти домой, а искать спасения на стороне: отказала ей от крова в трудную для нее минуту: в ее голосе тогда было больше тревоги за себя и за семью, чем за судьбу дочери. Но Рене давно ее простила. Она не могла держать зла на самых близких: отвечала теперь за обеих, а опекуны на подопечных не обижаются. С Жанной у матери были совсем иные и обычные отношения: Жоржетта жила ее повседневными заботами и интересами — в той мере, в какой это было возможно: учитывая, что она по-прежнему не хотела учить русский и вникать в местные обычаи. То, чего она не могла выспросить у Жанны, она угадывала по выражению ее лица, с которого не спускала глаз и изучала его, как астроном — небесное светило. Разговаривала она с Жанной обычно втихомолку и в уединении, когда никого кругом не было, — делала из разговора тайну. С Яковом они составляли занятную парочку. Тот был с нею учтив и доброжелателен, хвалил ее кухню, не забывал принести «Юманите», которую она читала здесь, точно как во Франции: садилась по окончании дел к столу и прочитывала все от первого листа до последнего, возмущаясь вместе с авторами статей хищниками-капиталистами и предательством социалистов, их пособников. Яков всякий раз обращал на это внимание и говорил, что у Жоржетты развитое классовое чувство: чуть ли не укорял им Рене — или, как ее теперь все звали, Элли: он по-прежнему считал жену не вполне зрелой марксисткой, не прошедшей в свое время надлежащей закалки и выучки. Сам он уходил рано и приходил поздно — не вылезал из Управления, где готовил людей для высылки за границу, или выезжал в командировки в приграничные области: если агента перекидывали пешим ходом, — возвращался всякий раз голодным, небритым и измученным. Он сильно похудел от такой жизни и работы, но ничего о ней не рассказывал, как если бы Рене, уйдя из Управления, начисто отсекла себя от прошлого. Это соответствовало правилам, но обижало Рене: ей казалось, что он не может простить ей отказа продолжить работу в Управлении. За столом он говорил теперь только о последних мировых новостях, по-прежнему обнимая весь глобус, как если бы это был огромной шар-театр революционных действий. Чтоб быть постоянно в курсе дела и держать руку на пульсе истории, он слушал своего классового врага, британское радио, на что имел разрешение (тогда не всем позволялось иметь радиоприемник высокого класса), и снисходительно признавал, что Би-Би-Си выгодно отличается от других источников информации краткостью и надежностью. «Они могут позволить себе это», — говорил он, давая понять, что это не меняет сути дела и империалисты остаются империалистами, какими бы ни были их радиопередачи. Всякий воскресный обед, даже с приглашением гостей, сопровождался пространной политинформацией, которую, надо сказать, гости слушали с интересом (потому что дома у них ничего подобного не было), а свои — как придется, как молитву за обедом: с той разницей, что молитву читают перед едой, а политпросвещение начиналось после первого блюда, когда докладчик, насытившись, мог поделиться с другими своими новостями. В 1940-м он ушел из Управления и вряд ли сделал это по своему почину: там все бурлило и менялось, снова пошли кадровые перемены — на этот раз, кажется, бескровные. Он стал заведующим кафедрой иностранных языков Академии бронетанковых войск, но образ жизни его не переменился: он и на новом месте пропадал с утра до вечера, читал, кроме того, лекции о международном положении, был комментатором радиовещания за рубеж, всегда что-то писал. Она принимала его таким, каким он был, и не мыслила себе другого мужа. Их связывала общая жизнь, шанхайская история, у нее никого, кроме него, не было — не в лукавом смысле этого слова, а в самом простом житейском: старых товарищей по работе не осталось, а новых не прибавилось. К ним ходили в гости старые приятели Якова — те, кого он знал с двадцатых годов, — до того, как разведка изъяла его из нормального течения жизни: с ними он шутил, веселился и, как это было и в Шанхае, становился таким, каким, по свидетельству очевидцев, был когда-то в молодости, но на следующее утро уходил в себя, сосредотачивался на делах, держался на расстоянии — не только от Рене, но и от других в доме, включая собственную дочку.