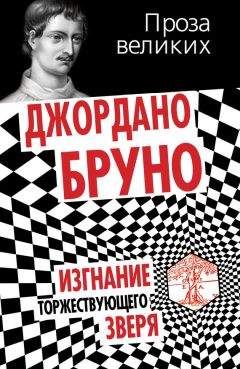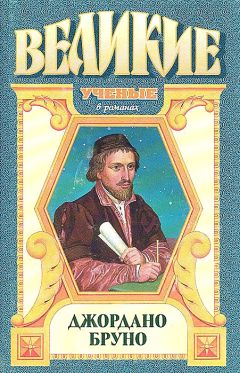Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
— Одно мне осталось неясным, — сказала она.
— И что же?
— Почему я провалилась. Наверно, сама в этом виновата.
— Это как?
— Я узнала уже здесь, что примерно в то время, когда я там появилась, по Севилье прошел слух, что туда приехала советская журналистка. А я покупала газеты — на разных языках и в большом количестве: могла этим обратить на себя внимание. — Привычку покупать несколько газет сразу она заимствовала у Якова: общение с таким человеком бесследно не проходит — и теперь грешила на нее.
Он нахмурился:
— Чепуха это. Обычно все проще и грубее. Подумаешь: разные газеты покупала! Может, ты впечатление хотела произвести. А может, просто обои клеила?
— Каждый день?
— Да не говори ты пустяки. Это я тебе как бывший контрразведчик говорю — это не в счет и никого не интересует. А вот личных врагов у тебя там не было?
— Был один. Руководитель фашистской молодежной организации в Лиссабоне. Некто Томмази. Итальянец.
— Это уже ближе к делу. Что он вообще, итальянец, делал в Лиссабоне? Ты с ним, надеюсь, не на идейной почве поссорилась? Это на тебя похоже. — Последнее он произнес с явной иронией.
— Нет. Не хотела к нему в номер идти.
Тут он только поджал губы и в высшей степени выразительно и недоуменно развел руками:
— Что ж ты? Разве тебя не учили этому?
— Семен Петрович! — вспыхнула она. — Я люблю Россию и мировое коммунистическое движение — но чтоб торговать собою?! Вы б видели его. Ощипанный и выпотрошенный цыпленок!
Он усмехнулся, сказал язвительно:
— А ты любишь мужиков в теле. Как твой Яков… Могла б ведь и богу душу отдать — из-за своей брезгливости.
Она одумалась.
— Все сложнее. Если б я сошлась с ним, от меня бы отвернулись остальные. Я же была в приличном обществе — там такое не проходит.
— Да? — Он поглядел на нее, признал справедливость ее слов, извинился:
— Наверно. Мы тут забываем хорошие манеры… И так плохо и этак… Но все-таки этого мало. Из-за этого в полицию не бегут и не стучат. Хотя все бывает, конечно.
— Я ему еще и дорогу перебежала, — вспомнила она. — Когда начались переговоры с представителями фирм и фашистских организаций. Они предпочли меня, потому что я канадка, из богатой страны с большими возможностями.
— И миловиднее, чем синьор Томмази?.. Тогда что тебе еще надо? Соперников никто не любит. Ему надо отчитываться перед начальством за проделанную работу — он тебя и убрал с дороги… Ты говоришь, тебя сначала прощупывал итальянец?
— Да. Представитель «Фиата», торгующий оружием.
— Тот, что с Франко запросто здоровается? Ты его фамилию хоть запомнила?
— А как же? Ту, во всяком случае, под которой он там был. Не знаю, насколько она подлинная.
— Настоящая. На этом уровне уже не прячутся, а под своими фамилиями работают. Что ему скрываться — это он, как ты пишешь, берет билет да едет в Мадрид без приключений. Это, наверно, их резидент там — или личный представитель Муссолини. Томмази твой не стал бы доносить в испанскую контрразведку: ему это по чину не положено — он обратился к своему начальнику, чтоб взглянул на тебя, развеял его сомнения. Итальянец повертел тебя так и сяк, ни к какому выводу не пришел — почувствовал только, что ты какая-то особенная, и передал испанцам: пусть разбираются — это их, а не его работа. Поэтому испанцы тебя и не очень тормошили: проверили на всякий случай, улик не нашли, но предложили уехать, от греха подальше. Так вот от людей и освобождаются: бросают на них тень сомнения, и они уже не те, что раньше, а как бы неполноценные.
— Я, между прочим, сама сказала это друзьям. Думала насолить ему, а говорила, наверно, по наитию.
— Наитие — вещь великая, им нельзя пренебрегать. К себе надо повнимательней прислушиваться: иногда можно узнать правду… А доносы действуют безотказно, — снова вернулся он к теме, которая постоянно его притягивала. — Капнут и найдут то, что было и чего никогда не было. Ты еще легко отделалась… — и помрачнел: сам-то он говорил сейчас как по наитию и, поняв это, ужаснулся собственному пророчеству…
Он умолк, сдержанным, но резким движением руки отправил ее отчет в ящик, попрощался с ней и, уже углубленный в свои думы, сказал напоследок:
— Получишь за эту поездку орден Ленина.
Даже это прозвучало у него сухо и почти неприязненно. Но она не была на него за это в претензии: не она была этому причиной.
16
Урицкий попросил ее написать новый, более подробный отчет, снова упрекнул ее за краткость, когда она подала его, но и это донесение не было дослушано до конца: высшие чины ушли с половины ее доклада. Она была задета этим, дочитала его младшему офицерскому составу, который был приглашен, чтоб учиться и набираться ума, но скоро поняла, что обижаться ей не на что: им всем было не до нее, они жили другими тревогами. Вскоре был арестован и погиб на допросах сам Урицкий: не сраженный честными пулями из-за угла, как его дядя, а забитый насмерть в кабинете следователя. После него его судьбу разделил ряд офицеров, последовательно занимавших его пост; с ними ушел в небытие почти весь аппарат Управления. Их ведомственный дом пустел на глазах, третья комната, где жила полька, оказалась опечатанной одной из первых. Были арестованы и уничтожены люди, чье положение не допускало мысли о таком исходе: ее знакомцы по Сочи маршалы Тухачевский и Уборевич, Якир и Егоров. Советским разведчикам было теперь опасней ехать в Союз, чем оставаться за рубежом, на нелегальном положении. Их вызывали в страну, чтобы арестовать, или, напротив, посылали в дальнюю командировку, чтоб без лишнего шума перехватить по дороге, — те и другие исчезали бесследно, без суда и следствия. Конца этому не было — равно как и объяснений происходящего, спрашивать же о нем или просто упоминать в разговоре никто не осмеливался, да и мало кто задавался такими вопросами: в России гнев правителей приравнен к стихийным бедствиям, не поддающимся ни воздействию извне, ни даже предсказанию.
Рене — или, как ее все звали теперь, Элли — это не коснулось: будто на ней висел некий амулет или оберег. Она получила орден Ленина: ей вручил его в Кремле Калинин — вместе с группой уцелевших сначала за рубежом, потом у себя дома участников гражданской войны в Испании. Она оставалась в распоряжении меняющегося, как турникет, начальства, ее готовили к новой работе (как она понимала теперь, готовили плохо и непрофессионально), к ней снова начали приходить домой офицеры — учить стратегии и тактике военных операций. Жизнь продолжалась: если можно, конечно, назвать жизнью безгласное и затаившееся существование, в котором люди обезличены страхом и похожи на марионеток, которыми дергают спрятавшиеся за занавесом кукловоды, а тем ничего не стоит выбросить каждого из них, если им в нем что-то не понравится, или за компанию с другими — из каприза или скверного настроения.