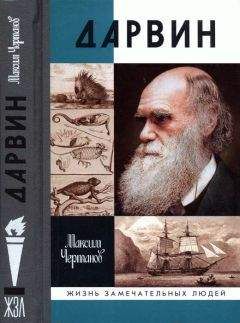Максим Чертанов - Хемингуэй
Страшное, честное признание… а все-таки Кребс, герой рассказа «Дома», провел на войне не месяц и продуктов не возил. Он воевал два года и побывал «под Белло Суассоном, в Шампани, Сен-Мигеле и в Аргоннском лесу». Существуют разные объяснения тому, что Хемингуэй демонстративно доказывал свою мужественность — например, он делал это потому, что мать заставляла его носить девчачью шляпку, или потому, что был ранен; немало исследований посвящены также его фантазиям и лжи — но о причинно-следственной связи между этими двумя чертами обычно не говорится. А связь, вероятно, существует: стыд за ту, первую, выдумку (ненужную, ибо на войне он делал, как выражаются американцы, «свою работу» и отнюдь не был трусом) так терзал его, что он до конца дней был вынужден доказывать, прежде всего себе, что он мужчина, воин и смельчак. Не солги он тогда — может, и жизнь прошла бы спокойнее, и десятки антилоп и львов остались живы? Впрочем, теперь уж не знаешь что и думать: может, и не было никаких львов?
…Человек, вернувшийся с фронта, если у него нет ни работы, ни жены, обычно не знает куда себя девать. В армии было все понятно, здесь — ничего. «В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком сложном мире давно установившейся дружбы и мимолетных ссор, что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир». Он прогуливался по городу, демонстрируя офицерский плащ, хромоту и красивую трость. Валялся на кровати, ходил в библиотеку. Его комната была полна сувениров — патроны, осколки, каски, ракетница, которая сгодилась на фейерверк для малышей. Пить дома было строжайше запрещено; он тайком добывал коньяк и ликеры, учил Марселину и Санни пить, курить и ругаться, убеждал их, что за пределами Оук-Парка есть «настоящая жизнь». Он никак не мог повзрослеть.
«Он (Кребс. — М. Ч.) смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел больше врать. Дело того не стоило. Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда. Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастался тем, что женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом он хвастался, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не может уснуть без женщины. Все это было вранье. <…> Дело того не стоило. Вот чем были хороши француженки и немки. Никаких этих разговоров».
Увы, не было никаких француженок и немок, это тоже вранье. Были только две одиннадцатилетние девочки из Оук-Парка, что таскались за ним по пятам и дежурили у дома. Неизвестно, понимали ли близкие, как он заврался, но чувствовали, что с ним «что-то не так». Марселина писала, что он походил на человека, «томящегося в ящике с забитой гвоздями крышкой». Карл Эдгар вынес впечатление, что Эрнест «вернулся фигурально и буквально растерзанным на куски». Он хотел писать, но не получалось. Ездил в Чикаго, встречался с товарищами по Красному Кресту, приглашал их в Оук-Парк, устраивал шумные ужины, родители были недовольны. Ждал Агнес, писал ей часто, она отвечала все реже и прохладнее. Он спрашивал, тоскует ли любимая — та отвечала, что «слишком занята, чтобы тосковать», и, как нарочно, рассказывала о настоящих бойцах «ардитти» — какие это потрясающие мужчины. Можно догадаться, каково ему было читать об этом. Вдобавок Агнес, кажется, уже не собиралась возвращаться в Америку. Из ее письма 3 февраля: «Мое будущее для меня загадка, и я не уверена, что знаю, как поступлю. Ехать ли домой, остаться ли на военной службе — я сейчас это решаю». 15 февраля: «Мне предлагают остаться на год в Риме, но я собираюсь на Балканы…»
Третьего марта Эрнест писал Гэмблу: «Невеста моя все еще в забытом богом местечке Торре-ди-Моста за Пьяве… Она пока не знает, когда вернется домой. А я откладываю деньги. Можешь себе представить? Я не могу… Вот что значит не пить и быть за тридевять земель от друзей. Может быть, теперь, когда я исправился, я ей больше не понравлюсь, правда, исправился я не окончательно… <…> Каждый день, каждую минуту я корю себя за то, что меня нет с тобой в Таормине. У меня дьявольская ностальгия по Италии, особенно когда подумаю, что мог бы быть сейчас там и с тобой. Честно, командир, даже писать об этом больно. Только подумаю о нашей Таормине при лунном свете, и мы с тобой, иногда навеселе, но всегда чуть-чуть, для удовольствия, прогуливаемся по этому древнему городу, и на море лежит лунная дорожка, и Этна коптит вдалеке, и повсюду черные тени, и лунный свет перерезает лестничный марш позади виллы. О, Джим, меня так сильно тянет туда, что я подхожу к книжной полке у себя в комнате, где прячу выпивку, и наливаю стакан и добавляю воды, и ставлю его возле потрепанной пишущей машинки, и смотрю на него, и вспоминаю, как мы с тобой сидели у камина… и я пью за тебя, шеф. Я пью за тебя. <…> Знаешь, я так хотел бы быть с тобой». И опять не обошелся без выдумок: «Три великолепных дня на Гибралтаре. Я одолжил штатский костюм у какого-то английского офицера и съездил в Испанию. Потом, как всегда, несколько сумасшедших дней в Нью-Йорке…»
Надо ли пояснять, что ни на каком Гибралтаре он не был? Он сочинял байки, а правды о том, что его мучило, сказать никому не хотел. Он напишет о ней спустя годы в рассказе «На сон грядущий»: «Уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому».
Седьмого марта он получил от «невесты» последнее письмо. «Эрни, дорогой мальчик, я пишу поздно вечером, после долгого раздумья, я боюсь причинить вам боль, но уверена, что она скоро пройдет. До вашего отъезда я пыталась убедить себя, что это настоящая любовь, потому что вы всегда спорили со мной, и наконец вы стали угрожать, что сделаете что-то ужасное, и это заставило меня сдаться, но ничего не изменило. Теперь, через несколько месяцев разлуки, я знаю, что все еще очень люблю вас, но это больше любовь матери, чем возлюбленной. Вы считали меня ребенком, но я не ребенок и взрослею с каждым днем. А вот вы для меня — малыш (и всегда им будете). Можете ли вы простить мой невольный обман? Вы знаете, что я на самом деле не плохая и не хотела поступать плохо, и теперь я понимаю, что с самого начала допустила ошибку, о которой сожалею всем сердцем. Но теперь я понимаю, что я старше вас, а вы — мальчик. Я знаю, что настанет день, когда я смогу гордиться вами, но, дорогой малыш, я не могу дожидаться этого дня… Я пыталась заставить вас понять хоть немного, о чем я думала в той поездке от Падуи до Милана, но вы вели себя как испорченный ребенок, а я не могла дальше причинять вам боль. Теперь, вдали от вас, я набралась смелости. Сейчас — поверьте, это случилось неожиданно для меня — я собираюсь замуж. Надеюсь, что вы, когда все обдумаете, сможете простить меня и сделаете великолепную карьеру… С восхищением и нежностью, навеки ваш друг, Эгги».