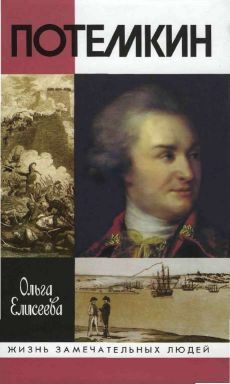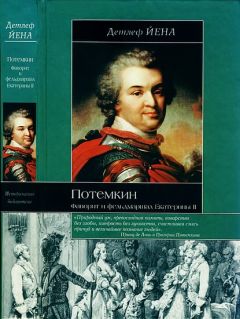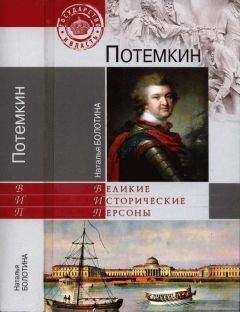Ольга Елисеева - Потемкин
За этими броскими романами, упомянутыми во многих мемуарах, совсем незаметно, хоронясь от посторонних взглядов, прошла последняя, искренняя любовь Потемкина. Она скрывалась за родственными чувствами, не выставлялась напоказ и очень береглась от пересудов. Все, что о ней смогли сказать современники, — это энгельгардтовское: «П. А. Потемкина, которой его светлость великое оказывал внимание». Мы бы совсем не узнали о ней, если бы не сохранившиеся письма князя к Прасковье Андреевне. Той самой, что в прошлом году тайком приезжала в лагерь под Очаковом к мужу, троюродному брату светлейшего.
Между Григорием Александровичем и Парашей стояли семейные узы, которые князь — завзятый ловелас и развратник — не посмел на сей раз нарушить. Боялся оскорбить брата, берег честь и доброе имя дорогой женщины. Его послания светлы и полны затаенной печали. Оба понимали, что счастью не бывать. И все же чувствовали такую душевную близость, что не могли скрывать очевидного.
Началось с невинных наставлений. Заметив, что Прасковья Андреевна религиозна и признав в ней родственную душу, князь писал: «Будь здорова, мой друг, истинная и милая дочка. Ты говеешь. Христос с тобою, обрати все внимание на молитву, которая не должна измеряться многословием, ни временам, ни исполнением простым обряда, но устремлением всех чувств к Богу. По смерть твой верный друг и отец». Потемкина отличало удивительно верное понимание самого существа религиозной жизни души. В этом письме он кратко, в сжатой форме изложил суть церковных взглядов на молитву, которым в современном богословии посвящены целые тома.
Однако пост постом, а страсти страстями. И князь, в конце концов, не выдержал, излив на возлюбленную поток нежных слов: «Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь, когда меня влечет непонятная к тебе сила, и потому я заключаю, что наши души сродныя. Нет минуты, чтобы то, небесная моя красота, выходило у меня из мысли; сердце мое чувствует, как ты в нем присутствуешь… Суди же, как мне тяжело переносить твое отсутствие… Ты дар Божий для меня». Увидев свою возлюбленную во сне, то в великолепной одежде, то в простой, князь писал: «Сей-то последний вид подобен моей к тебе любви, которая не безумной пылкостью означается, как бы буйное пьянство, но исполнена непрерывным нежным чувствованием».
В своей привязанности к Прасковье Андреевне князь находил нечто мистическое. «Я тебе истину говорю, что тогда только существую, как вижу тебя, а мысли о тебе всегда заочно, тем только покоен. Ты не думай, чтоб сему одна красота твоя была побуждением или бы страсть моя к тебе возбуждалась обыкновенным пламенем. Нет, душа, она следствием прилежного испытания твоего сердца, и от тайной силы, и некоторой сродни наклонности, что симпатиею зовется. Рассматривая тебя, я нашел в тебе ангела, изображающего мою душу. Итак, ты — я; ты нераздельна со мною». «Ты мой Григорий Александрович в женском виде, ты моя жизнь и благополучие». «Ты моя весна». «Без тебя со мной только половина меня, лучше сказать, ты душа души моей». «А всего прекраснее, что ты сама не мнишь подобной силы».
Боясь разлуки, Потемкин писал: «Ты смирно обитала в моем сердце, а теперь, наскуча, теснотою, кажется, выпрыгнуть хочешь; я это знаю, потому что во всю ночь билось сердце, и ежели ты в нем не качалась, как на качелях, то, конечно, хочешь улететь вон. Да нет! Я за тобою, и держась крепко, не отстану»[1516].
В январе 1790 года Прасковья Андреевна уехала из ставки. Больше князь ее не видел. Было ли принято решение прекратить слишком далеко зашедший роман или чувства иссякли сами собой, мы не знаем. Покой в семействе Павла Сергеевича Потемкина был восстановлен, и светлейший мог гордиться собой, но грусть оставила по себе глубокую зарубку на сердце.
«Лучше, если б ее не делили»В течение 1789 года отношения с Польшей становились все хуже и хуже. Пленные турки, переходя польскую границу, чувствовали себя в безопасности и свободно возвращались домой, получая покровительство польских властей. 19 июня 1789 года Потемкин сообщал императрице: «Весьма трудно было проводить пленных между Бендер и границы польской, и если бы я не послал отряд многочисленной, не дошли бы они до нас»[1517].
Русские войска, находившиеся в Польше на отдыхе и перекомплектовании, быстро выводились оттуда. «Я приказал сводить из Польши, уже много вывели, и из Киева выступили», — писал князь. Его остро беспокоил вопрос о хлебе. «Польша страшит немало, — признавался он Екатерине 30 июля. — Я боюсь, чтоб не отказали нам покупать хлеб, то, что будем делать? В предупреждении сего извольте приказать сделать раскладку хлеба в губерниях Малороссийских, в Курской, в Харьковской, Воронежской и Тамбовской, которой доставить на Буг. То, имея сильный столь запас, ежели б армия Украинская лишена была покупки в Польше, тогда может придвинуться к Бугу, получать тут хлеб и действовать к Дунаю с толикою же удобностию, как и из теперешнего места»[1518].
Под давлением прусских дипломатов в Варшаве начали принимать меры против снабжения русской армии продовольствием и лесом. В первую очередь эти меры ударили по обширным имениям Потемкина на дольских землях, из которых и производилась основная часть поставок. 21 августа 1789 года князь жаловался в письме Екатерине: «Поляки не перестают нас утеснять всеми манерами. А правда, что неловко между двух неприятелей быть… Они мне по деревням беспрестанные делают шиканы, и я уверен, что им хочется… конфисковать. Я бы за бесценок продал, чтобы избавиться досад, но не хочется для того, что сии земли для нас во многом большим служат ресурсом»[1519].
Положение становилось настолько нестерпимым, что Потемкин предлагал Екатерине, наконец, хитростью подтолкнуть Пруссию к раскрытию своих истинных планов в Польше, то есть к захвату Данцига и Торна. Еще в июле он писал императрице: «Прусаки бесятся, что по воле Вашей ласково обхожусь с поляками, и наводят на меня персонально, чтоб притеснять как можно. Были бы ваши дела хороши, о себе я не мыслю. Матушка родная, затяните прусского короля что-нибудь взять у Польши, тут все оборотится в нашу ползу, а то они тяжеле нам шведов будут»[1520].
Осенью 1789 года у России появилась надежда развязаться хотя бы с одним противником. В Стамбуле серьезно заговорили о мире. В подобных обстоятельствах как никогда было важно заставить прусского короля приостановить свою агитацию в Польше. 22 сентября 1789 года Потемкин писал Безбородко: «При успехах наших, если мы прусского короля не поманим, то родятся, конечно, новые хлопоты. Что бы мешало отозваться его министру, что государыня на доброхотство его короля надеется, возлагает на его попечение промышлять о мире… На сие, конечно, король чем ни есть отзовется, а мы на то будем отвечать и между тем и время выиграем. Пожалуй, при удобном случае донеси государыне»[1521]. Однако подействовать на Екатерину, болезненно воспринимавшую идею сближения с заносчивым Фридрихом-Вильгельмом, не удалось и через Безбородко. Прусский король продолжал подстрекать Польшу напасть на Россию и сулил ей возвращение земель от Смоленска до Киева[1522].