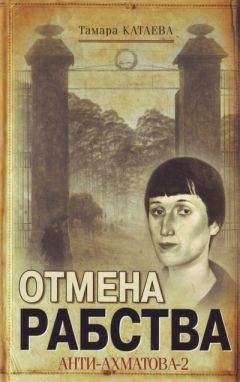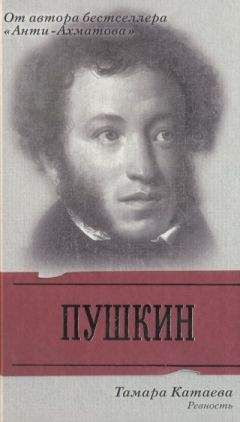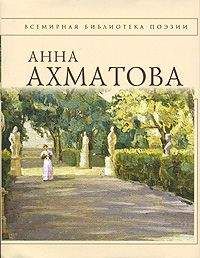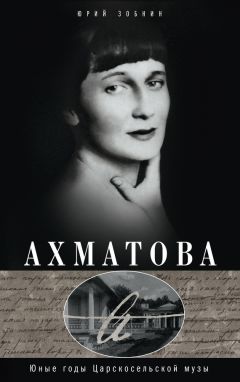Тамара Катаева - Анти-Ахматова
Я очень хорошо помню, как это было. Журнал «Иностранная литература» напечатала тогда «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя. Ахматова была удивлена низменностью этой вещи, тем обстоятельством, что столь одаренный и знаменитый писатель под старость не может вспомнить о Париже времен своей молодости ничего, кроме меню — что и как он ел и пил. «Неужели, — спрашивала она, — и мои воспоминания о Модильяни производят такое же впечатление?» Мы все, разумеется, ее разуверяли.
Михаил АРДОВ. Возвращение на Ордынку. Стр. 51
А она разве там писала о еде? Могла бы помнить и сама, писала или нет, что спрашивать?
А что их объединяет? Почему они должны быть похожи?
Какая наивная и недалекая вера в то, что сюжеты — даже просто место и время действия — объединяют произведения литературы! Тогда надо было бы ожидать, что «Приключения барона Мюнхгаузена в России» должны «производить такое же впечатление», как произведения Гоголя. Она не догадывается, что в литературе важно совсем другое?
А вот здесь запомнить еще слово «разоблачать»:
«Как не похоже на Хема. Они только и делают, что говорят о еде, вспоминают вкусную еду, и это как-то разоблачает его беллетристику, где все время едят и пьют».
Михаил АРДОВ. Возвращение на Ордынку. Стр. 93
И немедленно выпил.
Венедикт ЕРОФЕЕВ. Москва — Петушки
Безобразие. Эти вообще даже и не «едят и пьют», а совсем в мелкотемье впали и уже только пьют.
Не разоблачить ли ей еще и автора «Старосветских помещиков» да и многих, многих других? Вот Пруст, например, написал об поедании размоченного в чае пирожного «мадлен» много страниц…
Гуров в «Даме с собачкой» ест арбуз — и мы тоже что-то за этим видим. Что останется от мировой литературы? Только глобализм ее поэмы без героя, смущающей двадцатый век.
Везде у нее — о святости сюжета, о его первостатейной важности для литературы, о том, что Чехов плох, потому что «у него не сверкают мечи». Разве она будет так мелочиться?
АА читает мне отрывок из неоконченной поэмы «Трианон».
И рушились громады Арзерума,
Кровь заливала горло Дарданелл…
АА говорит, что «тут и Распутин, и Вырубова — все были», что она начала ее давно, а теперь «Заговор императрицы», написанный на ту же, приблизительно, тему, помешал ей, отбил охоту продолжать.
П. Н. ЛУКНИЦКИЙ. Дневники. Кн. 1. Стр. 129
Некоторых не пугает, что темы заняты — любви, измены, смерти, — продолжают себе писать как ни в чем не бывало… «Заговор императрицы» Алексея Толстого… После Толстого уже нельзя писать? Алексей Толстой все описал?
Об Ольге Берггольц.
«И второе то, что это неправда. Все неправда. Потому и не могло стать искусством».
Л. К. ЧУКОВСКАЯ. Записки об Анне Ахматовой. 1938–1941. Стр. 479
Все как раз наоборот: это не было искусством, а потому было неправдой. Иначе никто не мог бы писать сказок и никто не мог бы описать себя (а только это и делает настоящий писатель). Ведь Я — это неправда для ДРУГОГО.
<…> Обратно ехали мимо новостроек. Разговор перекинулся на Ленинград. Ахматова сказала, что начала было писать воспоминания о Петербурге, но в это время ей попались мемуары Стравинского, где он описывает город и по цвету и по запаху, т. е. так, как хотела написать Ахматова. И тогда она бросила эту затею: «Переписывать его — не моя очередь».
Василий КАТАНЯН. Прикосновение к идолам. Стр. 422–423
То есть после воспоминаний Стравинского никто не должен больше «описывать» Петербург? А ведь смельчаки продолжают находиться — те, кому есть что сказать.
«Я совсем, совсем распростилась с одним поэтом. Его для меня просто нет больше. С Есениным. Вчера Боря прочитал мне стихотворение, в котором поэт скорбит, что у него редеют волосы и как же теперь быть луне, что она, бедненькая, станет освещать. Подумайте, в какое время это написано».
Л. К. ЧУКОВСКАЯ. Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962. Стр. 170
То есть она понимает, что может быть стыдно. В какое время что написано.
Но согласимся, что все-таки было бы довольно естественно допустить в замысле скорбящего о луне поэта хоть чуть-чуть иронии.
Да и если бы она, кума, на себя бы оборотилась — то тоже что-нибудь за собой бы нашла: «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума», например. «Подумайте, в какое время это написано».
Сюжет — основа литературы, среди сюжетов она находит самый достойный.
2 декабря 1961 года. Больница. Я сейчас поняла в Пастернаке самое страшное: он никогда ничего не вспоминает. Во всем цикле «Когда разгуляется» он, уже совсем старый человек, ни разу ничего не вспоминает: ни родных, ни любовь, ни юность.
Анна Ахматова.
Н. ГОНЧАРОВА. «Фаты либелей» Анны Ахматовой. Стр. 291
А почему надо вспоминать? Где это написано, что надо вспоминать? Самое страшное — это когда человек не живет, а вспоминает (уж я не говорю — придумывает воспоминания, как она). Что вспоминал в старости Толстой? Разве на это он тратил свою старость? Разве для этого прожил? Пруст вспоминал, но не в старости, и вспоминал не прошедшее, а усомнился, что прошедшее — прошло и больше не существует. А на теплой лежанке в полумаразме вспоминать родных, любовь и юность — вот это страшная, мелкая участь.
Марина Цветаева назвала слово и похуже «сюжета», она сказала: «содержание». Всю ахматовскую книгу «Ива» (из серии шиповник, лебеда, все дощато…) она меняет на одну пастернаковскую строчку (раздирающую душу, как весь он, это не сероглазый король), и от великой поэтессы ничего не остается.
Боюсь, что Ахматова этого даже бы не поняла.
«ЛЕБЕДУ ПОЛЮ»
Кроме респектабельных символов, она использовала и штампы попроще: лебеду, шиповник — так, как это она видела у других поэтов, пишущих «о погоде». Наверно, потому она и отзывалась о них так зло и пренебрежительно: «на июльском воздухе нынче далеко не уедешь», «видно, что знает природу» — потому что считала, что они так же, как и она, используют эти образы механически, для исполнения какой-то культурной повинности — и на тебе, получают за это дивиденды: славу, интерес, успех… Она не хочет уступать.
На коленях в огороде
Лебеду полю.
В голодные годы Ахматова живала у Рыковых в Детском Селе. У них там был огород. В число обязанностей Натальи Викторовны входило заниматься его расчисткой — полоть лебеду. Анна Андреевна как-то вызвалась помогать: «Только вы, Наташенька, покажите мне, какая она, эта лебеда».