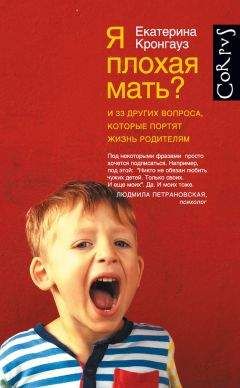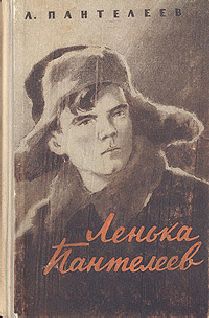Екатерина Андреева-Бальмонт - Воспоминания
Милая, мне больно, что я не знаю, как ты решишь и как сложатся твои обстоятельства. Я послал по 5000 руб. тебе, Нинике и Леле. М. Сабашникову я дал доверенность на мои получения, которые должны возникать в мое отсутствие, и, если они будут возникать, он будет переводить деньги тебе. Но это пустяки, и как бы я хотел помочь тебе, знать, что ты не нуждаешься. Мне больно, что я так мало делаю для тебя.
Любимая, любимая, с тобой должен был бы я быть больше, чем с кем-нибудь в мире, и меня с тобой нет. Ты лучше всех, Катя, я не устану никогда повторять тебе, что только ты дала мне узнать, какой высокой бывает женская душа. Какое счастье любить избранную одну, тебя, и, любя других, все-таки любить тебя одну, потому что другой, той, которая была со мной в лучезарной всеобещающей весне, — той, что была со мной в саду и, шутя, обрызгала меня цветущей веткой, и любила на Uetliberg’e и в Испании, и в Петербурге, и в Сулаке, той, которую я всегда любил, другой той нет, она одна, и через нее я стал всецело светлым и победил своих демонов. Где я ни буду, ты будешь со мной, Катя. Да хранит тебя Тот, Кто видит наши жизни, и да сбережет Он нам радостный миг свиданья в свободной красивой стране.
Целую, целую тебя. Твой К.
19 июля. 7 ч. в. Ревель
Катя моя милая, я продолжаю находиться в том, что я называю призмой чуда, то благого, то злого или только кажущегося злым. Виза французская от Палеолога в ответ на мою телеграмму, посланную Пети, получилась в двухдневный срок. Я был уверен, что немецкая транзитная виза будет дана тотчас, как и было обещано. В немецком консульстве солгали и визу мне не дали. Я употребил все влияния, — их было не мало, — но тщетно. Уперся консул Хенкель, которого мне хотелось назвать Henker [178]. Счастливый случай свел меня с Дитманом, вице-президентом немецкого Рейхстага, только что приехавшего в Ревель. Он отнесся ко мне необычайно мило, и после телефонады его в немецкое консульство я визу получил в 6 ч. в. 17 июля, а в 11 ч. у. того же дня мой корабль уехал в Штеттин, и я потерял 4 места, то есть 20 000 эстонских марок, то есть 400 000 советских рублей. Следующий корабль идет 31 июля. Сегодня утром я обеспечился местами на нем. Странно, когда я стоял на пристани и Кусевицкий, с которым мы были все время вместе, посылал мне прощальный привет с палубы, его лицо было охвачено судорогой скорби, и я видел, как он жалеет меня, а я был совершенно спокоен. Сейчас мне, конечно, жаль утраченных денег, но я по-прежнему спокоен. Это все как-то лишь внешне касается меня. Главное не то, не то.
Я узнал, что наша квартира в Париже цела, в ней живут Четвериковы. И пусть себе живут. До того дня, как приедешь в Париж ты. А это когда-нибудь ведь будет же несомненно. Катя, Катя моя, есть пути, в которых я не мыслю себя без тебя. Как жаль, что не все мои пути с тобой.
Ревель — красивый старинный город. Но жизнь здесь пустая и ничтожная. А вид толстых обжор и пьяных грубиянов столь противно необычный, что хочется проклинать буржуазию, — занятие бесполезное. Русские, которых встречаю, беспомощно слепы. Они ничего не понимают в современной России. Если бы я мог располагать достаточными средствами, я бы поехал в Европу лишь на несколько дней и снова уехал бы туда, где так хорошо: в Мексику, Перу, Японию, на Самоа, на Яву. Туда, где изумительные цветы и оглушительны цикады, упоительны волны Океана, туда, где можно забыть, что человек — грубое и свирепое животное.
Моя милая, я хотел бы юным снова встретить тебя юную, черную, алую, горячую розу на другой планете и быть твоим, только твоим и не разлучаться с тобой никогда. Твой Рыжан.
P. S. Нинику целую много, много.
1920. 26 декабря. Париж. Бледное утро
Катя моя любимая, родная и единственная, где ты, я не знаю, — в Кременчуге, в Харькове, в Питере, в Москве? Пишу и пошлю письмо Нинике. Последние вести не от тебя, но о тебе в письмах из Москвы к Нюше. Когда ты была в Москве, на тебя, конечно, нахлынуло столько впечатлений и столько людей было около тебя, что ты не могла написать письма. Я грустил, но мне ли упрекать.
Милая, мне хотелось бы написать тебе что-нибудь радостное и толковое, но, кажется, не могу. Внешне жизнь идет ровно и на вид хорошо. От лекций, книг, и газетных статей, и стихов в газетах притекают монеты, но их едва хватает на текущие расходы. Полгода вертелся и вывернулся. Хочу думать, что не провалюсь и следующие полгода. Но все это скучно и утомительно. Конечно, мы едим иногда лучше вас и живем в теплых, освещенных комнатах и читаем пошлейшие будто свободные парижские газеты, и зимы почти не было и уж, верно, не будет (перед сном я в туфлях, полуодетый выхожу на балкончик и смотрю на звезды и шлю благословляющие мысли тебе, и Нинике, и еще другим покинутым милым), но это все отдельные подробности (кроме того, что в скобках и что уязвляет тоской нестерпимой). Я знал, уезжая, что еду на душевную пытку. Так оно и продлится. Что ж, из сердечной росы вырастают большие мысли и завладевающие напевы. Я пишу. Мои строки находят отзвук и будут жить. Меня больше это не радует никак.
Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного.
Видаюсь мало с кем. С Александрой Васильевной очень редко. Она бодра и помолодела. С Грифом, напрасно мятущимся{134}. С одной молодой русской, которая переводит меня на французский язык. Кое с кем из писателей, художников. Пусто, пусто. Духа нет в Европе. Он только в мученической России.
Малия с детишками и Томасом (потерявшим место) гостят в моем intérieur’e [179]. Все четверо в комнате Нюши, а она переселилась в столовую. Почти Б. Николо-Песковский переулок. Малия очень мила, ее дети совсем фейные. Твой Костюнчик приветлив и научился от Катериночки великодушию сердца.
Милая, любимая моя Катя, через все страны кричу: «Люблю тебя!» Твой Рыжан.
1922. 17 февраля. Бретань
Моя родная и любимая Катя, я писал тебе недели две тому назад, но, если ты получишь мои строки, верно, и те, и эти одновременно.
С тех пор как Нюшенька драгоценная получила от тебя собственным твоим почерком написанную открытку из Б. Николопесковского переулка, у меня такое чувство, как будто я повидал тебя, поговорил с тобой, и хоть снова разлука, но знаю, что ты, слава Богу, жива и как будто уж не так далеко.
Мы все у Океана. И хотя я тем самым, что не в Париже, теряю многие возможности, но я здесь другой человек. Не могу достаточно насытиться красотой Океана, сосен, полей и виноградников, благородною тишиной и безлюдьем, своей творческою пряжей. За этот год я написал две новые книги стихов. Теперь пишу роман в прозе, настоящий роман. Уже кончил 1-ю часть. Я знал, что к этому дело придет, когда почувствую, что стал старше. Видно, действительно стал старше. Однако не холоднее. И неугомонность моя, унаследованная от Веры Николаевны (занимающей в лике Ирины Сергеевны 1-ю часть моего романа), неистребима во мне.