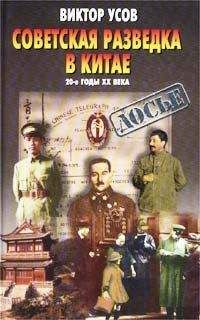Людмила Бояджиева - Гумилев и другие мужчины «дикой девочки»
Он освободит себя от нее — выметет «мусор», проветрит комнаты, заживет с чистого листа! Двадцать один — не конец света.
Николай вскочил, распахнул окно, дохнувшее автомобильной гарью.
«Королева или капризный ребенок» — билось в висках… И ее узкое тело, призывно распластанное на камнях… Черт! Черт! Черт! Освободиться не удалось. Анна приворожила его. Яд оказался смертельным.
Сев за шаткий столик дешевого гостиничного номера, на шершавом листке с грубым вензелем «Отель «Парижский гость» он написал:
На камине свеча догорала, мигая,
Отвечая дрожаньем случайному звуку.
Он, согнувшись, сидел на полу, размышляя,
Долго ль можно терпеть нестерпимую муку.
Вспоминал о любви, об ушедшей невесте,
Об обрывках давно миновавших событий,
И шептал: «О, убейте меня, о, повесьте,
Забросайте камнями, как пса, задавите!»
…Несколькими днями позже за столиком парижского кафе элегантный молодой мужчина, довольно известный поэт Гумилев, рассказал своему визави, полноватому господину с кудрявой шевелюрой, литератору Алексею Толстому, презабавный случай. Длинную, печальную, художественно окрашенную в небесные тона историю. Историю своей смерти.
Итак, он приговорил себя к смерти. Путь выбрал самый простой. Ушел, продираясь сквозь кусты, подальше в лес, ощупывая постоянно нагрудный карман пиджака, хранивший заветный пузырек. В нем Николай уже год носил кусок цианистого калия, способного свести счеты с жизнью в предельно короткий срок.
— Я снял воротник и высыпал яд на ладонь. Знал, что как только брошу его с ладони в рот, мгновенно настанет неизвестное… Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всех сил к губам… Помню шершавый вкус яда… И стал ждать угасания. Но оно не наступило… Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом я приподнялся и огляделся. Увидел, что сижу на траве наверху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валяются воротник и галстук…
— Осечка! — отметил Толстой. — Поздравляю. — Насмешливыми, внимательными глазами он наблюдал за собеседником. Потом он напишет: «Гумилев говорил глуховатым, медленным голосом. Прямой, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский с нежной и ласковой улыбкой…
Теперь окидываю взглядом его жизнь. Смерть всегда была возле него, думаю, его возбуждала ее близость. Он был мужественен и упрям. В нем был налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен — капитан призрачного корабля с облачными парусами…»
Глава 11
«А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска…» А.А.
Ахматова упрямство Николая знала хорошо. Над его мужеством, живописуемом в пышно декорированных стихах, она посмеивалась. И поняла: теперь она верит в бабьи выдумки под названием «приворот»…
В киевской квартире царила вечерняя прохлада. Анна лежала на продавленном диване, уставившись в потолок. Отвалившаяся местами лепнина, тени от веток каштана в голубом дыму папиросы. Время обтекало тело, как волны. Тик-так, тик-так — баюкали часы… Полетели… Сейчас она походила на свою мать или на ту юную лунатичку, которую выслеживали воспитатели в коридорах лицея. Куда унеслись ее мысли? Кто мог знать?.. Да и сама она часто путала сны с явью, а явь с видением, как в лунном трансе. Свои мысли, чужие… Да чужие ли? И видения, видения… Кто присылает их — память, фантазия, Муза?
Окутало воздухом, который она никогда не спутала бы ни с каким другим. Водоросли и разогретый на солнце старый камень, такой старый, что даже страшно прикоснуться. Столетняя гречанка, бронзовая и морщинистая, как печеное яблоко, поймала ее за руку в узенькой улочке под гирляндами сохнущего латаного белья. Самая древняя Херсонидка. Давно это было, так что, может, и не было вовсе.
— Я тебя здесь часто с ним вижу, — прошамкал ввалившийся рот. — Оставь, этот сокол не для тебя. Душу искогтит, сердце вынет. — Старуха отерла ладони о клочья бурой, словно засохшей кровью пропитанной юбки. — Дай руку.
Анна подчинилась вопреки желанию юркнуть в узкую щель между домов и бежать, бежать. В тринадцать лет ноги быстры.
— Красивая рука, нежная. Не для работы, для жадных губ. Только не здесь и не этой просоленной матросне целовать тебя. Ты девица непростая. С луной в сговоре. Знаешь, кто я? Вижу, знаешь… — Беззубый рот растянулся в улыбке.
— Знаю, что ты плохие дела делаешь. В черной тени твой дом, а в доме злой огонь! — выпалила Анна ходившие по городу слухи.
— Лихая девица! Есть, есть у меня злой огонь, да не для тебя запален. Кого люблю — тому дарю! — Откуда-то из седых косм темная иссохшая рука вытащила булавку и — раз! — вколола в тонкий палец Анны. Девочка не успела и шелохнуться, будто окаменела. Бусинку крови старуха жадно слизала языком. Пробормотала что-то невнятное и разразилась мужским, гортанным гоготом. С карнизов спящих домишек взвились голуби. Эхо заметалось в кривой улочке.
— К этому, с якорем на руке, больше не ходи. Не для тебя он. — Старуха опять зашлась смехом, кашляя и давясь. — Но я тебе подарок оставила: тот, кто не мил, навек присохнет. Силен королевич, да не прильнешь ты к нему естеством своим. А сама вспыхнешь и отгоришь большим пожаром в жертвенном костре. Только раз в твоей жизни такому огню бушевать. Так тебе на роду написано. А ты не тужи, Лунная, — так-то оно легче. Много даров от жизни получишь. Много и потеряешь. Много, много…
Умчалась в даль, словно провалилась в бездну, узенькая улочка, затих в колодце времени смех колдуньи…
«Кто не мил — навек присохнет…» Глупый сон. Анна верила в сны — они часто сбывались. А потом не могла понять, то ли придумала историю и она сбылась, то ли мимо пронеслось и растаяло нечто неведомое, что когда нибудь она обдумает и сочинит. Или узнает, натолкнувшись лбом в один прекрасный день.
Гумилев планировал свою первую поездку на Восток в Египет и по дороге решил заехать в Коктебель к Волошину. Да не один — с дамой. Чудесное возвращение к жизни в результате неудавшегося самоубийства подняло его жизненный тонус. Николай Степанович встрепенулся, деятельно взялся за организацию в Питере нового издания — журнала «Аполлон» (в котором в дальнейшем, до 1917 года, будет печатать стихи и переводы, вести постоянную рубрику «Письма о русской поэзии»). Почувствовав себя живым, полным сил и энергии, он с удовольствием закрутил роман с умненькой и чрезвычайно сексуальной хромоножкой — Елизаветой Дмитриевой, переводчицей, поэтессой, авантюристкой. На альбоме, подаренном Елизавете, Николай написал с гусарской удалью: «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей». Соль «несмущения» заключалась в том, что это посвящение уже было написано прежде, Анне. И получилось так, что Гумилев передал Лиле лебединый титул, а «неневесту» развенчал. Впрочем, имел право после стольких мук, от нее принятых.