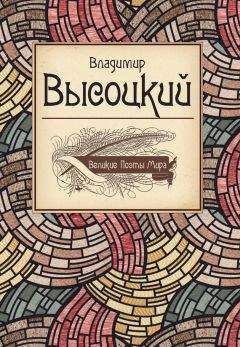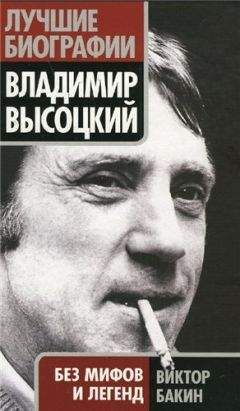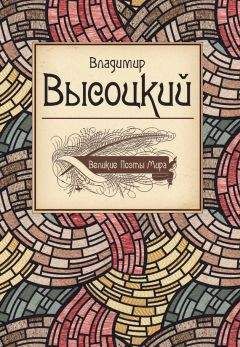Владимир Высоцкий - Владимир Высоцкий: монологи со сцены
Злые языки говорят, что, вероятнее всего, Мейерхольд неточно нашел форму для этого спектакля, поэтому он его и не поставил.
Мне кажется, что Любимов нашел идеальную форму, чистую, законченную, очищенную. Спектакль Любимова поразительно графичен. В нем нет ничего лишнего.
Мы ничего не убрали из текста поэты, наоборот, кое-что добавили. Наш замечательный драматург, киносценарист, писатель, сатирик Николай Робертович Эрдман написал несколько интермедий, которые играются в этом спектакле.
Начинается спектакль с того, что на сцене стоит плаха. Выходят два шута в колпаках, сделанных из бумаги, и втыкают в плаху два топора. Под колоколами стоят три мужика, которые не могут понять, что происходит, и поют такой текст:
— Кузьма! Андрей!
— А что, Максим?
— Давай скорей
Сообразим!
И-и-их —
На троих!
— А ну их —
На троих!
На троих,
Так на троих!
Потом выясняется, что «на троих не пойдет, на троих не возьмет».
Свежий день —
Давай вдвоем…
Потом: надо пить на одного, потому что не берет одна.
Эти стихи я для них написал. Так что я и туда приложил лапу.
В этом спектакле очень интересно использованы песни и музыка. Мы нашли старинные причитания. Знаете, когда отпевают, есть много текстов: на усопших, безвременно погибших детей, погибших во время войны… Мы нашли такой плач:
Ой да чем-то наша славная земелюшка распахана?
Ой да чем-то наша славная земелюшка засеяна?
А распахана она лошадиными копытами,
А засеяна она казацкими головами.
Композитор Буцке написал удивительную музыку на эти плачи. В нашем спектакле их поют шесть женщин, одетых в черное. Это целый спектакль в спектакле.
Спектакль — как символ, как символичная поэзия. Когда Есенин писал «Пугачева», он увлекался имажинизмом. В этом спектакле есть образ с самого начала. Помост из грубо струганных досок, который спускается вниз, к авансцене, к плахе.
Вдруг выходит двор, выходит императрица, топоры накрываются золотой парчой, превращаются в подлокотники трона. Садится Екатерина и начинает беседовать с двором.
Екатерина ведет беседы со своими придворными. Они ей рассказывают о том, что на Руси большой пожар. Она говорит: «Ничего, отстроимся. В шестидесятом какой пожар был и то отстроились!» Она к бунту относится спокойно. Она больше интересуется по поводу акта пьесы, которую она сама написала. Это очень интересный, комедийный текст, написан Эрдманом.
Николай Робертович Эрдман — один из самых прекрасных людей, которых я знал в жизни. Он дружил с Маяковским, с Есениным.
Николай Робертович Эрдман мне очень помог в жизни моей. Когда я в двадцатичетырехлетнем возрасте играл Галилея, которому было около семидесяти, без грима, все думали, как реагировать. Он первый встал, по зрительному залу прошел демонстративно, зная, что он — большая фигура в театральном мире, подошел ко мне, пожал руку и, ничего не сказав, ушел. Я с ним дружил. Дружил до самой его смерти. Он уже не живет, к сожалению. Это был один из последних могикан, удивительная личность, наделенная невероятным чувством юмора.
…А наверху, на грубо струганных досках, на этом станке, мы — пятнадцать совершенно обезумевших от слез и крови людей. Мы играем по пояс голые, в парусиновых штанах, босиком, с топорами в руках. Есть металлическая цепь на сцене, в которой некоторые запутываются, а иногда она кого-то не пускает. Вот как Хлопушу, которого я играю.
Металл на голом теле и топоры. Топоры действительно острые. Мы их втыкаем в помост. Иногда выхватывается из наших рядов человек, который гибнет по ходу пьесы, и скатывается вниз, к плахе. Все это восстание, весь этот клубок тел катится, катится, неотвратимо катится к плахе, захлебываясь в крови. Это был жестокий бунт, и он был жестоко подавлен. У нас такое сценическое решение: когда, например, погибает Зарубин — врубается топор в помост. Конечно, не по-настоящему его убивают. Хотя, между прочим, в нормальном реалистическом театре, если вы уж нормальные городите декорации, тогда по-настоящему и убивать надо. Верно?! А у нас — условный ход. Мы врубаем топор в помост, выкатывается один человек и катится к плахе. Просто физически катится к плахе. Такая материализация метафоры.
Я думаю, что Есенин не обиделся бы на то, как его поэму поставили у нас в театре.
На сцене — две виселицы. На них не вздергивают людей — это глупо; все равно никто не поверит, что по-настоящему повесили. Вздергивается одежда дворянская, когда восставшие одерживают верх. И мужицкая, когда восставшие терпят поражение.
Любимов однажды, будучи на отдыхе по болезни, придумал форму, как сделать этот спектакль. Еще в Тбилиси на пляже он однажды нарисовал и деревянный помост, и плаху, и воткнутые топоры. Любимов очень хорошо рисует. Первые наши спектакли он сам оформлял. Он говорил художникам, что он от них хочет, а они уже прорисовывали и вычерчивали. А придумывал он. Сейчас, когда в нашем театре появился Давид Боровский, они вместе придумывают, а раньше придумывал он один.
Спектакль жесткий. Так и написал Есенин. Некоторые поэты считают, что поэма «Пугачев» — не лучшее произведение Есенина. Мне так не кажется.
Есенин написал невероятные по напору стихи. Он их написал так, будто бы утром сел — вечером закончил. Одним махом, он даже не утруждался, чтобы всем персонажам дать какие-то оттенки в речи. Вероятно, иногда ему на ум не приходили слова, и он целую строчку делал повторами:
Послушайте! Послушайте! Послушайте!
Вам не снился тележный свист!
Нынче ночью, на заре жидкой
Тридцать тысяч калмыцких кибиток
От Самары проползло на Киргиз.
Видите, ломает ритм. Или предположим:
Что случилось? Что случилось? Что случилось?
Ничего страшного. Ничего страшного.
Ничего страшного.
Там на улице промозглая сырость
Гонит туман, как стада барашковые.
Вдруг такие он делает повторы в строках. Вероятно, он просто не следил за этим. У него был наворот такой, у него кипело.
Я играю в этом спектакле роль беглого каторжника Хлопуши. Этот монолог Есенин любил больше всего из всей своей поэзии. Он сам его читал около ста раз. Есть даже запись на радио. Горький рассказывал, что Есенин читал этот монолог. А мне Николай Робертович рассказал, что Есенин, когда его читал, ногтями продырявливал себе ладони до крови. Вот в такой степени нервного напряжения он читал этот монолог.