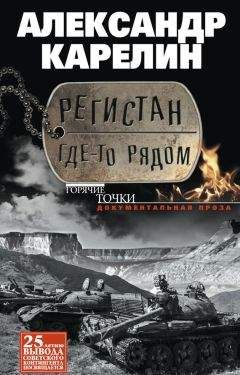Владимир Стасов - Училище правоведения сорок лет тому назад
и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, — так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление. Разве что лет за 20 перед тем «Горе от ума». Но скоро после смерти Пушкина вышло «Полное собрание его сочинений»; наш класс в первый же день купил один из самых первых экземпляров (так точно потом было и с I томом «Мертвых душ»), и в несколько дней книги этого «Полного собрания» до того растрепались, что пришлось распорядителям нашим на время отобрать их у класса (это произошло не без труда и даже насилия), чтобы поскорее отдать их в переплет. Наша необыкновенная ревность к Пушкину продолжалась очень долго, хотя мы его уже знали вдоль и поперек, тверже, чем всевозможные казенные свои уроки и лекции. Мы его беспрестанно читали. «Полное собрание» Пушкина никогда не лежало у нас не занятым в шкафу, он вечно был в расходе. Мы восхищались от всей души не только «Онегиным», «Борисом Годуновым», прелестными мелкими стихотворениями, но даже «Повестями Белкина», не чувствуя еще, что, в форме рассказов, написанных чудесным языком, это сущие водевили для Александрийского театра и более ничего. Со мной же самим случилась из-за Пушкина очень серьезная, по-тогдашнему, история.
В 1839 году (когда мы были уже в 5-м классе) мы, по-всегдашнему, говели на первой неделе великого поста. Так как классов у нас в это время не бывало, а праздным я не любил оставаться, то, разумеется, что я делал? Конечно — читал. Вот однажды утром сижу я и читаю, как сейчас помню, «Братьев-разбойников» Пушкина. Я совершенно углубился в свое дело и, при постоянном классном шуме и разговорах, к которым мы так привыкли, что они никогда не мешали нам читать, писать, делать свои «сочинения», — я и не слыхал, как дверь стеклянная подле самого моего стола и высокого табурета отворилась и кто-то взошел в класс. Я встрепенулся только от ласкового голоса, потихоньку говорившего мне почти на ухо: «Что ты читаешь, Володя?» Это был директор Пошман, который вообще очень любил меня и часто обращался со мною интимно, чему больше всего способствовало то, что я всякий день играл у него на квартире — проделывал свои фортепианные уроки. Вероятно, и теперь, войдя случайно в класс и видя меня глубоко погруженным в чтение, он думал, что я читаю что-то «отличное», за что ему надо будет только похвалить меня. Он пододвинул к себе книгу, взглянул — стихи! повернул заглавие — Пушкин!! Я, как пойманный с поличным вор, молчал, опустив глаза. В одно мгновение все между нами переменилось. Куда девался ласковый тихий голос, куда пропали любезные слова: «ты», «Володя»! Директор свернул книгу, взял с собою и сердитым глухим голосом только сказал: «Вы нынче говеете, я не хочу вас ни бранить, ни выговаривать вам — я скажу все это батюшке. Это теперь уже его дело. Он сам рассудит, что с вами надо сделать». И потом он ушел. А батюшка — т. е. наш законоучитель и духовник — тот шутить не любил. Я, наполовину со страхом, наполовину с любопытством, стал ждать, что со мною будет. Вечером того же дня, когда кончилась всенощная, перед тем, что нам выходить из церкви, и когда мы рядами начали уже заходить налево назад, вдруг отворилась маленькая северная дверь в иконостасе, в ней появилась строгая фигура Михаила Измаиловича Богословского, в рясе и еще в епитрахили, со сложенными у пояса руками. Он спокойным голосом сказал: «Стасов, подите сюда». Все наше шествие остановилось. Воцарилось в церкви глубокое молчание. Я подошел к северной двери иконостаса. «Вы знаете, что такое нынешняя неделя?» — спросил Михаил Измаилович, сдвинув брови на своем всегда бледном благородном лице. — «Да-с», — отвечал я с напряженным любопытством и немножко ущемленным сердцем. — «Зачем же вы читаете книги, которых не должны теперь читать?» Я молчал. «Неужели вы не могли найти ныне никакого другого чтения?» — Я опять молчал. Одну секунду помолчал также и он и потом сказал: «Так как вы не понимаете важности того, что вам предстояло, то вы не приходите ко мне в пятницу на исповедь. Причащаться в нынешнем году вы не будете». И он ушел назад к себе в алтарь. Я был очень удивлен, никоим образом не ожидая такой трагической развязки. Воротясь в свой класс, мы подняли разговоры, стали обсуждать дело по-своему, находили, что наш духовник совсем не прав, и из-за такой «глупости» и безделицы не стоило приниматься за такие крутые расправы. Признаться сказать, я был больше удивлен, чем огорчен. Конец среды и четверг этой недели я провел совершенно спокойно и даже очень мало помышлял о наложенном на меня «отлучении» от товарищей. Но в пятницу, на вечерне, пока я стоял в церкви и когда исповедь для всех была уже кончена, меня совершенно неожиданно одолели печальные и меланхолические размышления. Как это я вдруг останусь один, изгнанный, извергнутый? Что скажет директор, когда узнает, что со мною случилось? (По своему джентльменству, а, может быть, тоже, ко мне немножко расположенный, Михаил Измаилович до тех пор все еще ничего не говорил директору Пошману.) Но всего более меня стала грызть мысль, что подумает, что почувствует, как набедствуется мой добрый, кроткий, благочестивый отец, который, несмотря на всю перемену, совершенную во мне училищем, не переставал быть для меня первым человеком в мире и предметом беспредельного, пламенного, почти фанатического обожания. Что он скажет, что он подумает? Как ему будет больно! Моему настроению немало помогала также сама наша церковь, тогда еще маленькая, тесная, с низеньким иконостасом, перед небольшими образами которого едва мерцали редкие свечи. Вечерние сумерки надвигались все более и более, церковь становилась поминутно все мрачнее и чернее, монотонное чтение церковных текстов, из которых, впрочем, мое ухо не схватывало ни одного слова, изредка поднимавшееся пение, хором, важного и строгого речитатива, в унисон — все это вместе растревожило и разбередило меня до такой степени, что я, наконец, пришел в состояние, близкое к истерике. Я с трудом дождался конца вечерни; день уже совсем почернел, а свечи у иконостаса горели уже совсем темнобагровым пламенем над светильнями, нагоревшими шапкой. Когда наши ряды тронулись с места, я, вопреки всем правилам и не спросясь ни у какого начальства, вышел из своего ряда и направился прямо в алтарь. Меня никто не останавливал. Я вошел в темный маленький алтарь, священник снимал с себя одной рукой епитрахиль и отдавал ее дьячку, другою расправлял длинные волосы, немного наклонив голову. «Что вам?» — сказал он мне сурово. — «Мне надо вам сказать…» — начал я глубоко стесненным голосом и остановился. Он видел, в каком я экзальтированном состоянии духа, и сделал тотчас дьячку знак рукой, чтоб тот ушел. Мы остались одни. «Батюшка…» — начал я дрожащим голосом, и вдруг накопившееся во мне за всю вечерню напряженное истерическое чувство так сдавило мне грудь, что слезы хлынули у меня из глаз и я ни слова не мог сказать. «Ну-с, что вам?» — повторил Михаил Измаилович наполовину уже менее строгим голосом. В два года моего пребывания в училище он уже немного меня знал и, конечно, твердо мог быть уверен в том, что я мало расположен был и к ханжеству и к притворству. Мы оба помолчали секунду. «Батюшка, — начал я снова, прерываясь от слез, — я пришел просить вас, чтоб вы все-таки меня исповедывали… и дали причастие… Теперь мне можно… вы это можете… я теперь достоин…» — Он посмотрел на меня пристально. «Чем же вы приготовились?» — спросил он меня вдруг. Я был очень озадачен и не знал, что сказать. Мне казалось, что я уже все сказал, что даже в одном моем голосе нарисовалось выражение всего, что со мною происходит со среды. Это молнией пролетело у меня в голове. Однако отвечать надо было и, повидимому, — официально. Я наудачу сказал: «Постом и молитвой». В эту минуту мне решительно ничего больше не пришло в голову. Наш священник принял в соображение, повидимому, все вместе: и мои слова, и мое появление, и слезы, и голос, может быть, и выражение лица — я уж не знаю, но только он прочитал мне добрым голосом маленькое наставление и потом сказал: «Ну, хорошо, я буду вас исповедывать», — кликнул дьячка, чтоб надеть снова епитрахиль, и исповедь моя совершилась. Как я великолепно спал в эту ночь! Так спал, как спят после счастливо кончившегося припадка истерики, после прошедшей благополучно великой опасности. На другой день я причащался вместе со всеми, совершенно уже спокойный и вошедший в обычную свою колею. Но вот, наконец, кончилась обедня, я наскоро выхлебнул в столовой чай, который мы обязаны были после причастия пить, в виде исключения и особенного угощения, и поскакал на извозчике домой. Даже не снимая мундира, я влетел в маленький кабинет моего отца, где он, по обыкновению, в халате и колпаке, сидел у стола своего и что-то чертил карандашом. Я, по-всегдашнему, крепко поцеловал у него руку и с одушевлением принялся быстро рассказывать, каким чудным манером мне на нынешний раз пришлось исповедаться и причащаться. Он был, конечно, на первом плане в моем рассказе о моем экстазе и нервном припадке во время вечерни накануне. Мало вообще разговорчивый, мой отец мне ничего не отвечал; он только поправил с одной коленки на другую свой бархатный черный халат на оранжевой подкладке, подвинул колпак на голове и медленно поглядел на меня своими добрыми тихими улыбающимися глазами. Но мне этот взгляд был дороже и милее, чем если бы он меня сто раз обнял и поцеловал.