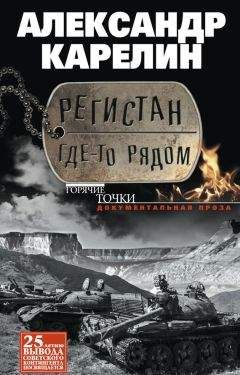Владимир Стасов - Училище правоведения сорок лет тому назад
Повесть «Нос» мне привелось узнать при совершенно исключительных обстоятельствах. Однажды меня оставили в училище на воскресенье, в наказанье за какую-то шалость, уж и не помню какую. Я, пожалуй, очень-то и не скучал бы об этом, потому что по воскресеньям оставалось довольно много товарищей — у кого родственники были за сотни и тысячи верст, и никого в Петербурге, у кого были только такие знакомые, к которым не хотелось ходить, наконец, бывало всегда немало наказываемых, иногда из лучших товарищей. Притом в воскресенье давали обед гораздо лучше, аппетитнее и обильнее, чем в остальную неделю. Катанье на коньках с горы, гулянье в саду и pas de géant оставались в нашем распоряжении как всегда, книги тоже, да еще сколько часов сряду, без перерыва классами — значит, можно было и не скучать. Воспоминание о семействе, куда не пустили, — ну, да ведь сколько же и вознаграждений, заставляющих забыть это лишение, и притом ведь это была только отсрочка всего на 6 дней. Я скоро и утешился. Но спустя 2–3 часа я получил маленькую записку от моего отца (она у меня и до сих пор цела), которая разом отшибла все прекрасное и немножко бессердечное, веселое расположение духа. Меня мой отец глубоко и сильно любил (хотя никогда не рассказывал этого словами), и не видать меня при себе в воскресенье — это было для него серьезное лишение. Он мне писал, как ему печально, как ему больно мое отсутствие в воскресенье и как его не веселит в эту минуту даже все остальное семейство наше, веселое и хохочущее рядом в других комнатах. У меня разом сердце упало, меня словно громом пришибло, и я в глубоком унынии, почти рыдая, принялся писать письмо к моему отцу. Отправив его, я немножко успокоился уже от одного страстного, по-своему, лирического настроения, тут высказанного. И вот в классе, где я печально сидел один и немножко сентиментально раскисал, до меня долетел громадный хохот, несшийся из зала. Я долго не вытерпел, выскочил из своего пустынного класса и увидал целую толпу наших правоведов, стоявшую около воспитателя, Алексея Симоновича Андреева, и во все горло дружно хохотавшую от того, что он им читал. Я поскорее протеснился вперед, даром что тут большинство было из старших классов, стал жадно слушать, и через две секунды улетели далеко все мои печали, все мое самобичевание, все мои горестные размышления. Алексей Симонович Андреев был у нас один из самых любимых людей во всем училище; мы и всегда-то к нему льнули как к своему, близкому, а тут еще он любезно и милостиво читает нам какие-то чудесные, новые, неслыханно оригинальные вещи! Недавно только перед тем вышел тот номер «Современника», где напечатан был «Нос», и, даром что сам уже пожилой человек, А. С. Андреев разделял восхищение лучшей части России и страстно любил Гоголя. Я не знал в первую минуту, что такое читают, чье это сочинение — спрашивать было некогда, но меня, как и всех, поражала и приводила в безграничный восторг эта изумительная правда, натуральность разговоров, эта неслыханная комичность сцен. Алексей Симонович читал мастерски, и еще тем лучше, что сам он был в восхищении и что окружавшая его толпа молодежи аплодировала зараз и читаемому, и чтецу. С каким мастерством он воспроизводил нам речи и размышления майора Ковалева! Какой голос он ему придавал! Серьезный, важный, чиновничий, полувоенный, немножко надменный, немножко трусоватый, глупый и подчас подобострастный! Мы были в глубоком восхищении. Когда все кончилось, я спросил: что такое читали и чье это? А, так вот кто! Опять Гоголь, тот самый, чьи «Иван Иванович и Иван Никифорович» наше вечное восхищение! Еще бы нам не восторгаться. И мы провели потом блаженно остальное воскресенье.
Впоследствии мы также в первый раз в чтении А. С. Андреева узнали «Коляску». Восторг и энтузиазм были те же. Как сам бывший немножко военным, Алексей Симонович не хуже настоящего талантливого актера передал нам голоса, мины, интонации, даже лица всех этих генералов, полковников, майоров и тоненьких офицериков, не заставших хозяина дома и от нечего делать отправившихся смотреть на дворе его лошадь и коляску.
Некоторые из нас видели тогда тоже и «Ревизора» на сцене. Все были в восторге, как и вся вообще тогдашняя молодежь. Мы наизусть повторяли потом друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это все его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе не бывало на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, до пота на лице и на ладонях, до сверкающих глаз и глухо начинающейся ненависти или презрения, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось все только больше и больше.
Из училищной библиотеки мы доставали, я помню, в те же самые времена, «Бригадира» и «Недоросль», по совету гоголевских оппонентов из учителей или знакомых. Фонвизин нельзя сказать, чтоб нам не нравился, но, при сравнении, насколько еще выше и блестящее выходил Гоголь!
Что касается иностранных писателей, то первое, что мне пришлось купить для «господина класса», это — сочинения Виктора Гюго в двух больших томах. Это было компактное издание, для дешевизны, в два столбца, порядочно мелким шрифтом. Но мы не боялись за свои глаза и упорно читали этот мелкий шрифт, иной раз когда уже порядочно стемнело в классе, а ламп еще не зажигали, — так нам приятен был Виктор Гюго, которого мы до тех пор знали только по знаменитому имени, так мы были захвачены и поражены великою душою, широким, горячим сердцем, проявлявшимися не только в таких капитальных созданиях, как «Le dernier jour d'un condamné» и «Claude Gueux», этих истинных представителях XIX века, не только в великолепной «Notre Dame de Paris» и драмах, но даже в таких наполовину уродливых вещах, как «Bug Jargal» и «Han d'Islande». По доходившим до нас слухам, мы уже наперед ожидали великих чудес от Виктора Гюго, и жадность наша была так велика, что когда в одно воскресенье я с одним товарищем (из плохоньких по интеллигенции, но добрым парнем и, главное, хорошим по практической части, для покупок), белокурым Тизенгаузеном, пошел и купил В. Гюго у тогдашнего недорогого французского книгопродавца Пуанкарре, мы тотчас же, не выходя из лавки на Новомихайловской (где ныне «Европейская гостиница»), попросили ножик, принялись разрезывать книги и хоть понемножку прочитали там и сям, где ожидали самых важных вещей. Спустя месяца два или три мы тоже купили, в пяти большущих томах, полное собрание сочинений Александра Дюма: он тогда столько же славился, как В. Гюго, их считали равными, товарищами, их одинаково одни любили, другие преследовали. Мы, конечно, тоже не были еще в состоянии понять разницу между ними, не понимали еще фальши и ничтожности Дюма и довольно долго восхищались ими почти в равной степени, хотя все-таки отдавали предпочтение В. Гюго за его великолепные лирические порывы, которых вовсе не встречали у Дюма. И этих двух нам приходилось отстаивать в горячих спорах от презрения старых людей. Мне очень памятны пламенные схватки, доставшиеся на мою долю и происходившие по праздникам или на каникулах, всего чаще в доме у нашего родственника, старого архитектора Аничкина дворца, Дильдина, о котором у меня довольно говорено в первой главе [9]. Там я встречал народ самый разнокалиберный и, в числе других, несколько учителей из штатских и военных заведений. Несмотря на значительное расстояние лет (все они были, по малой мере, втрое старше меня), я постоянно вел с ними жаркую войну и оттого именно любил бывать в этом доме. Всего чаще моим врагом и оппонентом был некто Олимпиев, учитель русского языка и словесности в одной из гимназий, точно такой же смешной и отсталый педант, как наши училищные Георгиевский и Кайданов, человек, никогда не ходивший в гости иначе как с орденом на шее и в белом галстуке. Господи, сколько у меня произошло с ним битв уже из-за одного Гоголя, в особенности за «Ревизора», за «Невский проспект», за всю его «вечную грязь и непристойность»! А тут еще вмешивался от времени до времени, за обедом или в антракте между кофеем и вистом, тот или другой из старших. Иные из них уже кое-что слыхали про Гоголя и даже, может быть, немножко читали его. Натурально, все были на стороне Олимпиева, — ведь он учитель да и насколько же старше. Впрочем, я должен отдать справедливость, мне позволяли спорить на равных правах с этим старшим, несмотря даже на весь его орден, и никогда мне никто не зажимал рот какими-нибудь презрительными фразами: «Молчи, мол, мальчишка, знай свои уроки и не спорь со старшими». Нет, этого никогда не бывало, и как я иногда на них всех ни сердился за их толстую непонятливость, за их неспособность радоваться на Гоголя, однако я потом все-таки оставался им благодарен и про себя говорил, уходя вечером из их компании: «А как бы там ни было, это ничего не понимающее старье в вицмундирах — все-таки добрые люди!» Но когда поднимались у меня с Олимпиевым баталии из-за Виктора Гюго и Дюма, тут уже все старшие начисто молчали. Большинство из них вовсе не знало по-французски, а кто и знал немножко, отроду ничего не читал, а про В. Гюго — даже и не слыхивал, Между тем, с каким азартом я вступался за своих любимцев, за новизну их направления, за великое их дело, столько для меня любезное: свержение старых классиков (хотя я и не подозревал, что этих классиков они вовсе не сгоняют с лица земли, а сами же во многом их продолжают). Олимпиев с негодованием, весьма рассерженный и ощетинившийся, в своем белом галстуке, нападал на вычурность и риторику В. Гюго, на поминутную неестественность его лиц и сцен, а я с жаром отвечал, что пускай все это так, но у этого В. Гюго пропасть есть и другого, в сто раз более важного и драгоценного, а вот этого он, Олимпиев, и не понимает или не хочет видеть: душевный жар, горячая защита заброшенных, затоптанных и презираемых, отстаивание тех, на кого в глупом чванстве слишком многие и смотреть-то не хотят. Дерзкий переворот в литературе, пламенная революция, могучая ломка старого и негодного — как все это мне нравилось в Викторе Гюго, каким он мне представлялся гигантом, лучезарным богом! Но когда мне случилось однажды защищать против Олимпиева тоже и Александра Дюма, доказывая, что никто, никто раньше не осмеливался вступиться, как он, за «незаконнорожденных» (в его знаменитой тогда драме «Antony») и бичевать в сто кнутов нелепый общий предрассудок, то тут мой Олимпиев уже и совсем рассердился, покраснел как рак и быстрее обыкновенного залепетал своим немножко косноязычным языком. «Предрассудки! Глупости! Вот как нынче уже мальчики говорят! Да что бы это было, коли бы так стали вдруг думать и все… перемешались бы все понятия… и какого-нибудь негодяя, незаконнорожденного, стали бы сравнивать и ставить на одну доску с настоящими, законными детями таких честных, превосходных родителей… высокой нравственности… как вот, например, вы, Захар Федорович, или вот вы, Павел Иванович», — частил Олимпиев, обращаясь то к тому, то к другому из присутствующих, почтенных отцов семейства. Те отвечали: «Да. . да…» и качали только головами. Я думаю, им просто скучно было все это слушать и хотелось поскорее козырять. Что касается до нас обоих, с Олимпиевым, мы вовсе и не подозревали, что этот самый вопрос о незаконнорожденных был уже за целых 300 лет взят и нарисован огненною, гениальною кистью кем-то, кто был не Александру Дюма чета: Шекспиром в «Лире». Знали бы мы это, может быть, и спор у нас так сам собою и не состоялся бы: мне бы тогда нечего было так вступаться за чудное, великодушное «новаторство» Дюма, а Олимпиев меньше бы стоял за «законных».