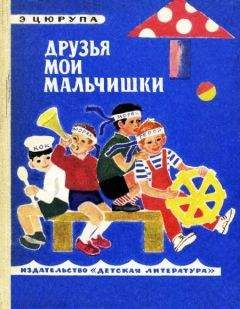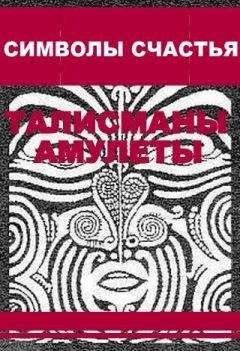Илья Олейников - Жизнь как песТня
– Вижу!
Валера восхищенно рассматривал казацкие усы и львиную гриву.
– Я сейчас иду к Пенькову. Ты понял?
– Обстрижет, нах..! – догадался Валера и задумался.
Но ненадолго. После паузы он залез в шкафчик, извлек оттуда рулон бинта и ловко обмотал им мою физиономию. Да так, что из обертки проглядывали только кончик носа и два глаза.
– Ну как? – спросил он. – Художественно?
– Художественно, – согласился я, – только подозрительно стерильно.
– Есть маленько, – сказал Савельев и нанес на бинт несколько широких йодовых мазков.
Йод был похож на спекшуюся кровь, и теперь я смахивал на полуубитого красноармейца, чудом вышедшего из окружения.
– Щас-щас-щас! – оценивал свое произведение взглядом творца Савельев.
– Шматок грязи, лейкопластырь на бровь – и ты в порядке.
Вот в таком непрезентабельном виде я и предстал пред светлы очи Пенькова.
– Вы кто? – спросил он, подозрительно вглядываясь в марлевую морду.
Вопрос был правомочен – меня бы и мать родная не узнала в столь лицемерном обличии.
Взяв бумажку, я, изображая невероятное неудобство, написал свою фамилию.
Пеньков, как и следовало ожидать, начал закипать тульским самоваром. То есть с присвистом и медленно.
– Что за маскарад? – процедил он.
«Во время транспортировки попал в аварию. Сотрясение мозга и перелом челюсти», – написал я и горестно вздохнул.
– Что, так навернулся, что даже говорить не можешь?
Я мотнул головой. Пеньков расслабился и сел. На лице его воцарилось умиро-творение.
– Да! – удовлетворенно сказал он. – Значит, все-таки есть Бог на свете.
И замурлыкал под нос какую-то незатейливую мелодию. По всему было видно, что таким я ему явно нравился. Но при этом чувствовалось, что если бы к моей проломленной голове добавилась бы, скажем, и оторванная снарядом нога, то тогда я бы понравился Пенькову еще больше.
Но об этом можно было только мечтать.
А посему, оглядев меня и удовлетворившись уже окончательно, что Бог все-таки есть, он вынул из сейфа документы и со словами: «Чтобы глаза мои больше тебя не видели» – бросил их на стол. Я отдал честь и вышел. Точнее, выбежал.
Я рванул в Дом офицеров, где меня уже поджидала заготовленная заранее гражданская одежда, и, забравшись в душ, яростно отдирал промыленной мочалкой два въевшихся в тело года.
А через часик, в модном прикиде, хорошо пахнущий и кокетливо потряхивающий шелковистыми кудрями, я вновь постучался в пеньковскую дверь.
И снова Пеньков не узнал меня.
– Вам кого? – несколько ошарашенно спросил он, увидев столь необычно одетого посетителя в служебное время в воинском учреждении.
Я был настроен дружелюбно.
– Буду богатым, – сказал я, вынимая из дипломата колбаску, сырок, хлебушек и литровую бутыль портвейного вина.
Сначала Пенькову показалось, что ему мерещится. Он даже мотнул головой, как бы говоря: «Свят, свят, свят!» – но потом, сквозь дорогое пальто, лихие усы и шопеновскую прическу он явно начал замечать некоторое сходство с тем марлевым чмом, которому он чуть более часа назад сам, своими собственными руками отдал военный билет.
Эффект узнавания стоил дорогого. Недаром все-таки я выкинул на прощание этот опасный фортель. Пенькову стало так обидно за себя, что даже злость улетучилась.
– Падла! – только и смог сказать он. – Какая же ты падла!
– Стаканчики есть? – спросил я, нарезая по-хозяйски закуску.
– В сейфе! – как из гроба прозвучал ответ.
Первый стакан мы выпили молча. Второй тоже.
Потом Пенькова прорвало.
– Ты думаешь, я не понимаю? – вдруг заговорил он. – Думаешь, я не понимаю, о чем ты думаешь? «Я личность, а этот офицеришка поганый – жлоб армейский!» Что, скажи, не думаешь?
Я пожал плечами, не желая разрушать наметившуюся было интимность встречи.
– Молчишь? – страшно обижался Пень-ков. – Молчишь, всякую мутоту про меня думаешь. А что ты про меня знаешь? Встаю в пять утра, ложусь в двенадцать, – бил себя в грудь старлей. – А знаешь, когда я со своей бабой последний раз спал? Знаешь?
Я налил Пенькову остаток. Он жадно выпил. Вытащил из сейфа коньяк, разлил по стаканам, громыхнул его и, с какой-то жгучей тоской, огляделся по сторонам.
Мне стало его по-настоящему жалко.
– Пошли в буфет, Саша, – сказал я.
В буфете мы застряли надолго, количество пустых бутылок на нашем столе увеличивалось с какой-то необыкновенной быстротой.
Я выслушивал пеньковские обиды, потом выкладывал ему свои. А потом мы опять пили, и все начиналось сначала. Последнее, что я помню, это стремительно надвигающуюся на меня тарелку с винегретом, из которой я и поднял голову, проснувшись.
ДЕЙСТВИЕ
Дождь и слякоть сопровождали мою первую послеармейскую гастроль. Отслужив, я поехал домой, в Кишинев. Отогреться и прийти в себя. Безо всякого труда я был принят на работу в местную филармонию, в ансамбль с лучистым названием «Зымбет», что в переводе означало «Улыбка».
Когда открывался занавес, перед глазами зрителей представала группа явно пьющих дядек с почему-то музыкальными инструментами. Дядьки широко щерились, демонстрируя свои полусгнившие челюсти, словно оправдывая название ансамбля и давая понять, что уж чего-чего, а улыбок сегодня будет больше чем достаточно.
После верблюжьего поклона дядьки врубали свои децибелы и киловатты и, не забывая при этом щериться, запевали звонкую песнь о невероятно счастливой доле молдавского народа, живущего бок о бок с четырнадцатью не менее счастливыми соседями.
Многие верили. Затем на сцене появлялся я.
В расшитой цыганской жилетке и вдетых в сапоги среднеазиатских шальварах я должен был олицетворять собой обаятельного русскоговорящего молдаванина, эдакого рубаху-парня, но, очевидно, было в моем облике что-то такое, что заставляло публику сомневаться в чистоте моих намерений. Что-то мешало ей воспринимать меня как символ обновленной республики.
– Нам пятьдесят! – бодро начинал я, стараясь не замечать некоторого недоумения, идущего из зала. – Бывшей заброшенной бессарабской колонии уже пятьдесят! Какой прекрасный возраст! Возраст зрелости! Когда все еще впереди!
И так далее! На профессиональном языке литераторов подобная хренотень почтительно называлась позитивным фельетоном.
Кто их писал – оставалось загадкой, но как-то случай свел меня с одним из авторов.
Он сидел в сталинских лагерях двадцать лет. Я долго не мог понять, что же за-ставляло его сочинять эту суррогатную шелуху.
А потом понял. Сам факт выхода на свободу настолько подействовал на его пораженное лагерями воображение, что он чувствовал себя перед властями в неоплатном долгу.
Звали его Матвей Исаакович, и он очень гордился своими опусами, искренно считая все им написанное вершиной мировой литературы.