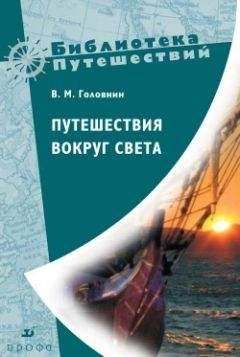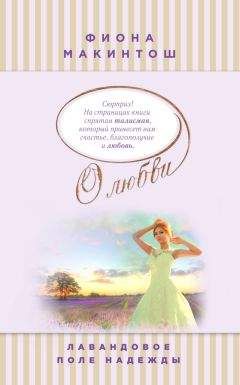Василий Головнин - Записки капитана флота
И как они, по законам земли своей, сего не имеют, то и нельзя им было узнать, по повелению ли правительства приходившие на их берега суда под русским флагом неприятельски действовали или совсем без ведома оного. А потому японское правительство решилось употребить сии насильственные меры, признаваемые впрочем во всей Японии несоответствующими правилам военных законов, но основанные на желании получить от российского правительства в сих происшествиях объяснение.
«Я уверен, – говорил он, – что одного свидетельства иркутского губернатора в том, что правительство не участвовало в поступках Хвостова, довольно будет для доставления русским пленным освобождения». Все, что говорил сей добрый и честный Кахи, не были одни пустые слова, вымышленные им для получения себе свободы. Впоследствии мы на опыте уверились в истине оных: он послужил нам орудием к скорому и счастливому прекращению распрей между двумя государствами, выдаче захваченных наших пленных и к постановлению на предбудущее время некоторых условий, которые, хотя и невелики, но сделаны вопреки коренным постановлениям империи. Обо всех сих обстоятельствах писал я к охотскому начальнику, представляя, чтоб он испросил по сему предмету официальное письмо от иркутского губернатора к губернатору матсмайскому, рассчитывая зайти за сим письмом в Охотск. Такатай-Кахи брался лично вручить письмо сие матсмайскому губернатору и доставить в Кунашир (куда обещано было его отвезти) решительный ответ и известие об участи всех наших пленных. Таков был план предстоявшей кампании.
До половины зимы здоровье Кахи было в хорошем состоянии, но смерть двух его матросов произвела в нем большую перемену: он сделался задумчив, угрюм, начал жаловаться на слабое свое здоровье, уверял лекаря, что у него в ногах цинготная болезнь, и утверждал, что она ему будет стоить жизни. Но истинною причиною его печали было желание воротиться скорее в отечество и опасение, чтоб в Охотске, куда надлежало заходить, его не удержали. Наконец он открыл мне свое подозрение. Видя, что от благополучного возвращения Такатая-Кахи в отечество зависит все: как освобождение наших, так, может быть, и восстановление с Япониею коммерческих связей, я решился, не дожидаясь ответа из Иркутска, отвезши его прямо в Японию. И когда объявил я ему об этом, он призвал к себе оставшихся своих двух матросов, сказал им свою радостную весть и просил меня, чтоб я оставил его на время с матросами. Вышед в другую комнату, я полагал, что набожный Такатай-Кахи желает молиться Богу, как обыкновенно, без свидетелей, но вместо того он скоро вышел из своей комнаты в парадном своем платье и при сабле вместе со своими матросами и начал изъявлять мне свою благодарность. Будучи изумлен сим неожиданным явлением и тронут чувствительностью доброго японца, я уверил его в точном исполнении своих обещаний.
В апреле месяце, когда надлежало заниматься приготовлениями шлюпа к походу, я получил от иркутского губернатора поручение привести в исполнение в звании камчатского начальника высочайше утвержденное новое образование Камчатки, и по случаю отправления моего к японским берегам доверил временное управление Камчатки господину лейтенанту Рудакову[94].
6 мая лед был прорублен и шлюп выведен на рейд в Авачинскую губу, а 23 мая отправился из сей губы в предпринятый путь. Через двадцать дней благоприятнейшего плавания прибыли мы благополучно к оконечности острова Кунашира и стали на якорь в заливе Измены в таком же, как и прошлым летом, расстоянии от укрепленного японского селения. По совету Такатая-Кахи велено было двум его матросам приготовиться ехать на берег. Селение прежним порядком завешено было полосатою материею. С батарей из пушек по шлюпу не палили и по всему берегу не видно было никаких движений.
Когда наше гребное судно для отправки японцев на берег было изготовлено, тогда оба японца пришли ко мне в каюту, чтоб изъявить за увольнение свое благодарность и принять от своего начальника разные поручения к главному начальнику острова. При сем случае я сказал Такатаю-Кахи, что, отпуская его матросов на берег, надеюсь, что они принесут от Кунаширского начальника на его письмо ответ с обстоятельным извещением о настоящей участи всех наших пленных, и спросил его, ручается ли он в их возвращении. Он отвечал: «Нет!» – «Как нет? – спросил я, – Разве тебе неизвестны законы твоей нации?» – «Известны, да не все». – «Когда так, – сказал я, обращаясь к его матросам, – то объявите кунаширскому начальнику от моего лица, что если он вас на берегу задержит и не пришлет ко мне никаких известий об участи наших пленных, то я должен буду признать сей поступок неприятельским и вашего начальника повезу с собою в Охотск, откуда нынешнего же лета придут сюда несколько военных судов требовать вооруженною рукою освобождения наших пленных. Назначаю сроку только три дня для обождания здесь ответа».
При сих словах Такатай-Кахи изменился в лице, однако с довольно спокойным духом начал говорить: «Начальник императорского судна (так он величал меня во всех важных разговорах)! Ты объясняешься с жаром, твое послание к кунаширскому начальнику чрез моих матросов заключает много, а по нашим законам мало. Напрасно угрожаешь ты увезти меня в Охотск. Ежели двух моих матросов начальник вздумает на берегу удержать, то не два, а две тысячи матросов не могут меня заменить. Притом предваряю тебя, что не в твоей будет власти увезти меня в Охотск, но об этом объяснимся после, а теперь скажи мне, действительно ли ты решился на таких условиях отпустить моих матросов на берег?» – «Да, – сказал я, – иначе как начальник военного корабля я не смею и подумать при таких трудных, на меня возложенных поручениях и ужасом скрытых обстоятельствах» – «Хорошо! – отвечал он, – Так позволь мне сделать, может быть, последнее и весьма нужное наставление моим матросам и словесно уведомить обо мне кунаширского начальника, ибо ни обещанного письма, ни какой-либо записки теперь я с ними не пошлю». Он несколько оправился, принял на себя важный вид и потом продолжал: «Ты довольно разумеешь по-японски, чтоб понимать все, что я в простых словах буду говорить своим матросам. Я не хочу, чтоб ты имел право подозревать меня в каком-либо дурном намерении».
Его матросы, сидевшие на коленях, приблизились к нему с поникшими головами и внимательно слушали его слова. Сначала наставлял он их в обрядах, как должно будет явиться к кунаширскому начальнику; потом подробно исчислил им, в которой день привезены они были на российский корабль, как были содержимы, когда прибыли в Камчатку, что жили в одних со мною покоях и получали хорошее содержание; что оба японца и мохнатый курилец померли, несмотря на все старания врача; что ныне шлюп поспешно отправлен в уважение его болезни прямо в Японию и пр. Он повторял им несколько раз, чтоб они все сие безошибочно пересказали кунаширскому начальнику, и заключил величайшею обо мне похвалою, упоминая, с какою заботливостью я всегда входил в их положение, что он сам, как на корабле, так и на суше, жил со мною вместе, и все, что только можно, по его желанию ему было доставляемо. Наконец пред своим образом в глубоком молчании помолился он Богу, поручил более им любимому из обоих матросов доставить свой образ его жене и отдал ему же большую свою саблю, которую называл родительскою, для того чтоб ее вручить единственному его наследнику и сыну.