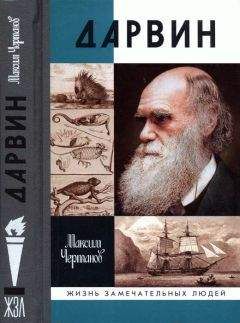Максим Чертанов - Хемингуэй
Но литературоведы, американские и наши, считают, что требовать от «Старика» психологической убедительности нельзя: это не реалистическая повесть, а эпическая поэма в прозе, где, как в какой-нибудь «Калевале» или «Старшей Эдде», важна не психология, а символика. (Хемингуэй сказал корреспонденту «Тайм»: «Очевидно, символы есть, раз критики только и делают, что их находят».) Джозеф Джексон назвал книгу «мистерией, где Человек борется против Рока». Бернард Беренсон: «„Старик и море“ Хемингуэя — это поэма о море как таковом, не о море Байрона или Мелвилла, а о море Гомера, и передана эта поэма такой же спокойной и неотразимой прозой, как стихи Гомера. Ни один настоящий художник не занимается символами или аллегориями — а Хемингуэй настоящий художник, — но каждое настоящее произведение искусства создает символы и аллегории. Таков и этот небольшой, но замечательный шедевр». С. 3. Агранович, А. П. Петрушкин. «Неизвестный Хемингуэй»: «Море — доказательство могущества человека над всем, но только не над природой. Рыба — плодородие, очищение от скверны, символ вечности, бессмертия… Сантьяго так и не сумел сохранить рыбу в сохранности, человеку не подвластно одержать победу над вечным».
То, что кажется фальшивым в устах реалистического персонажа, эпическому не только простительно, но и должно. «Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!» Сантьяго, подобно героям древних эпосов, ощущает себя такой же частицей мира, как и рыба, все предметы и явления для него не менее одушевлены, чем он сам, и являются его «родней». «Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, — что поделаешь, такова уж ее природа». «Ночью к лодке подплыли две морские свиньи, и старик слышал, как громко пыхтит самец и чуть слышно, словно вздыхая, пыхтит самка. — Они хорошие, — сказал старик. — Играют, дурачатся и любят друг друга. Они нам родня, совсем как летучая рыба». «Отдохни хорошенько, маленькая птичка, — сказал он. — А потом лети к берегу и борись, как борется каждый человек, птица или рыба». Он даже со своей рукой беседует, как с отдельной сущностью: «Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу, тебе это все равно не поможет. <…> Ну как, рука, полегчало? Или ты еще ничего не почувствовала?»
Не всякую родню любишь, и Сантьяго некоторых существ терпеть не может, потому что они «плохие». Тоже характерная черта эпосов: не нужно мотивировать, чем персонаж плох, достаточно назвать его злодеем. «Физалия перевернулась на бок, потом приняла прежнее положение. Она плыла весело, сверкая на солнце, как мыльный пузырь, и волочила за собой по воде на целый ярд свои длинные смертоносные лиловые щупальца. — Ах ты сука! — сказал старик». Акулы, напавшие на добычу старика — «вонючие убийцы». Вообще-то акулы, как и герой, убивают «для того, чтобы не умереть с голоду», и, если быть логичным, он не должен на них сердиться, ведь они, быть может, тоже говорят: «Худо тебе, старик? Видит бог, нам и самим не легче. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Мы родились, чтобы стать акулами, как рыбак родился, чтобы быть рыбаком». Но логика эпическому герою так же мало нужна, как и психология.
Разрешив спор с совестью таким же образом, как и старик, акулы съели рыбу. Герой вернулся ни с чем. Но есть мальчик, который любит и утешает его. Эпосы прекрасны, но уж слишком высоки и далеки, над ними не заплачешь — а как только эпически-героическое уступает место страдальчески-человеческому, вновь щемит сердце:
«— Как он себя чувствует? — крикнул мальчику один из рыбаков.
— Спит, — отозвался мальчик. Ему было все равно, что они видят, как он плачет. — Не надо его тревожить.
— От носа до хвоста в ней было восемнадцать футов! — крикнул ему рыбак, который мерил рыбу.
— Не меньше, — сказал мальчик.
Он вошел на Террасу и попросил банку кофе:
— Дайте мне горячего кофе и побольше молока и сахару.
— Возьми что-нибудь еще.
— Не надо. Потом я погляжу, что ему можно будет есть.
— Ох и рыба! — сказал хозяин. — Прямо-таки небывалая рыба. Но и ты поймал вчера две хорошие рыбы.
— Ну ее совсем, мою рыбу! — сказал мальчик и снова заплакал».
А вот финал — он, как и зачин, сделан словно не тем Хемингуэем, который писал срединную, героико-эпическую часть, а молодым, не любившим красивые слова: «В этот день на Террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых медуз длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя. „Что это такое?“ — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы, сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом. „Tiburon, — сказал официант. — Акулы“. — Он хотел объяснить ей все, что произошло. „Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно загнутые хвосты!“».
Черкасский, не желавший читать «Старика» как эпическую поэму, сказал об этом финале: «Казалось бы, ничего здесь нет. Ан вот он — айсберг. И то ощущение вечности, которое должно вызвать искусство, и которое столь тщетно, то приперчивая, то подсахаривая, старается исторгнуть из наших душ автор. А здесь никчемный кратенький разговор чужих людей, богатых ли, бедных ли, хороших либо дурных — неважно, главное — чужих. Не вообще кому-то, а тому старику, полуживому, истерзанному, нищему, которого мы полюбили, как ни старался этому помешать автор. И чего стоят все эти многокилометровые рыбные рассуждения старика в сравнении с этим „бесстрастным“ скелетом, который „сейчас уж просто мусор“, и его уже „скоро унесет отливом“. Вот так проникает литература в суть явлений. А не рассуждениями о том, „как хорошо, что нам не приходится убивать солнце и звезды“».
Эпический герой обязан совершить подвиг. Агранович и Петрушкин толкуют «Старика» как историю поражения: «Сантьяго так и не сумел сохранить рыбу в сохранности, человеку не подвластно одержать победу над вечным». Но это натяжка, Сантьяго не умер, не отказался от рыбалки, он снова выйдет в море, только с мальчиком, который ему поможет, так что большинство литературоведов и читателей видят в книге историю победы, сохранение «достоинства под давлением»: Сантьяго хоть и потерял рыбу, но преодолел собственную слабость. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Красиво, убедительно. А все же Ахматову — сохранившую достоинство под таким давлением, какое Хемингуэю и не снилось, — книга почему-то раздражает… И не ее одну… Только потому, что описание страданий на рыбалке выглядит кощунственным рядом с описанием страданий в концлагере? Но не виноват же Хемингуэй, что на рыбалке бывал, а в концлагере нет! Или еще что-то не так?