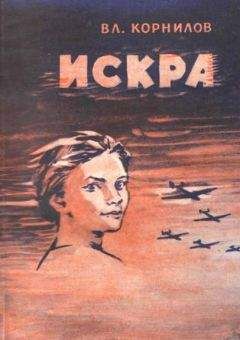Владимир Корнилов - Демобилизация
Новосельнов помолчал, потом потрепал лейтенанта по щеке.
- Дурень ты, Борька. Ох, и дурень. На полмиллиметра видишь, не больше. Чуть не блевал сейчас. Тебе бы стихи писать, а не твоей социологией заниматься. Я сам таким был, но только до пяти лет, ну, до восьми, не дальше... Уже в тридцать первом году, на фабзавуче, все, как есть, понимал. Бывало, иду по Питеру, хоть по Фонтанке, хоть по Дворцовой, гляжу на всю эту красоту и знаю: каждый камень, гвоздь каждый, даже хвосты у лошадей на Аничковом - все это не за так, не от Бога или начальства, а деловым рабочим человеком добыто и не прямо, а в обход и с умом. Всегда, с начала мира, там того не хватало, тут другого. И не кто-нибудь, а деловой человек договаривался с кем надо, выпивал с кем надо, заливал баки и доставал, где другой бы и в жизнь не раздобыл. Думаешь, царь, или там Сталин, или теперь Маленков подписали - так всё? Днепрострой готов или Исаакий построен? Шиш... Это, Борька, всё равно, как если бы от загсовского свидетельства дети рождались... Честное слово... И что мне обидно, что таких дураков, как ты - пропасть.
И знаешь, чего самое чудное? Что такого лопуха за версту видно. Я только взгляну - и сразу скажу, такой или не такой. У этих обхезанных идеалистов глупость на морде светится. Вон, как у тебя, - он беззлобно пихнул Бориса локтем.
- Да, - вздохнул. - Всё вы надеетесь, что только стоит вам правду выложить, вытащить на свет, как все сразу прямо так в нее поверят, к груди ее прижмут и начнут баюкать. Прямо верите, что скажи только вы эту самую правдоху, и все люди, все работяги всемирной армии труда за руки возьмутся и начнут петь: "каравай, каравай, кого хочешь выбирай!" А что жрать человеку надо и что одной вашей истиной его хрен накормишь, это вам в дурную башку не приходит. А жратва, между прочим, не от правды-матки получается, а от работы. И от дела еще. Жратву, ее сперва заготовить надо да еще к магазину подвезти. А вы хрен ее заготовляете. Вы нос дерете. Мы, такие-этакие, честные, пачкаться не хотим. Честные... - рассердился Новосе-льнов. - Как же! Честные - это те, что чего-то делают, пользу приносят, ну и себя, понятно, не забывают. А как себя забудешь? Кругом всех подмазывать надо. Что я, чокнутый? Я нос не деру, выше других себя не ставлю. Мне тоже жить надо. Ну и живу. И польза от меня идет. Может, в Америке (не был - не знаю) на лапу давать не надо. Может, там они уже сознательные. Только, думаю, вранье. Просто берут аккуратней и сразу помногу. А у нас и без "помалу" нельзя. На зарплату одни дурни живут. И то в самом низу. А кто чуть повыше, так те всякие прибавки, пакеты, пайки именные имеют. Сам, небось, знаешь, а не знаешь - дядьку расспроси.
Автобус медленно плыл сквозь просвистанную ветром и слабо пробиваемую немногими тусклыми фонарями шоссейную темноту. На душе у лейтенанта было препогано.
- Такие, как ты, самые вредные экземпляры. И откуда на нашу голову сваливаетесь? В дерьме живете, а еще других учить хотите. И учите, чёртовые болячки. Сперва не учи, а погляди, что и как. Потом сам учить не захочешь. А то вдруг узнают чего-то, чему сто лет в обед, и разорутся: Караул! Грабят! - хотя давно все разграблено-переграблено. Живет такой слепой болван и вдруг очухается и начинает, понимаешь, в колокол звонить. Вроде Герцена твоего. А зачем? Несправедливость, Борька, всегда была, с первого дня и, если рассосется, то никак не от крика. А будут, как ты, в воздух пулять, так еще хуже станет. Знаешь, как в анекдоте: попал в дерьмо, не чирикай.
- Философия лежачего камня, - скривился Борис.
- Нет, воробья, которого обхезала корова. А он, чудик, расчирикался, ну, кошка и учуяла, вытащила его оттуда и сожрала.
- Старо.
- А нового ничего и нет. Для меня - уж точно. А для тебя - вагон с тележкой. Иначе бы в воздух не шмалял. Чего теперь Журавлю скажешь? Зачем, спросит, патрон тратил?
- Отбрешусь. Скажу, по близорукости, думал, чужие. Свои, скажу, считал сознательные - не побегут от дежурного по части.
- Ну, это еще ничего. Потихоньку кумекать начинаешь. Только нос затыкать не надо, - воняет, мол. Дерьму мировому уже тыща лет. Принюхаться давно пора. Ты уже взрослый. Многие до твоих годов не дожили... Поехали, покажу тебе этого мужика и квартиру. Он теперь вроде на пенсии. По ремонту телевизоров приспособился. Скажу - тебя устроит.
- Очень надо.
- Ну, хоть достучишь свою фигню. И хлопнем по рюмахе. Ведь расстаемся.
- Ладно. Погляжу на твоего монстра. Авось, пригодится, - улыбнулся лейтенант.
15
Вечерняя Москва в клубах пара и ярких, слепящих, как фары автомобиля, фонарях, казалась нереальной. Хотелось на чем-то остановиться, задержать, но всё мелькало, бежало, не давалось и в то же время оглядывало тебя, такого чудного, в узкой коротковатой шинели и в тупых яловых, плохо начищенных милицейских сапогах. А Гришка с чемоданом, который сегодня в полку казался чуть ли не ряженым, вдруг вписался в эту Москву, просто прилип к ней, вечерней, шумной фонарно- и неоново-черной столице - и был как бы свой, шел от автобуса, минуя огни метро в какой-то людный проулок, словно всю жизнь здесь ходил и два часа назад не дрожал от страха, что вдруг чего-нибудь напеременят и из полка не отпустят.
Борис хватал всей грудью морозный городской пахнущий камнем, ржавчиной, копотью - чем угодно, только не небом и елкой, - воздух и всё не верил, что он снова в Москве, в городе, где сплошная воля и свобода. Так бывало с ним всегда и всегда кончалось ничем. Москва нико-гда не давалась в руки. Она была, как строптивая девчонка, что ластится, но не позволяет... и только изведешься и устанешь, и со злобной тупой радостью уползаешь назад в полк: ах, пропади оно всё пропадом!..
Так было и раньше, когда он мальчишкой приезжал на выходной из Серпухова. Так было и позже, когда выходил вечерами из общежития, потому что хоть общежитие было в Москве, но самой Москвой никогда не было. Москвой никогда нельзя было наглотаться вволю, так, чтобы осточертела, чтоб глаза на нее не глядели, обожраться, как до войны мороженым, а теперь - водкой. С Москвой этого не получалось.
"И слава Богу", - думал Борис, невесело глядя на круглые носки своих фараонских сапог. Они вышли на другую улицу, параллельную той, по которой ушел автобус. Тут света было поменьше, но всё равно много. Окна оплывали желтым, и фонари горели не реже, чем в полку вдоль забора над проволокой.
- Только не тушуйся,- предостерег Гришка у высокого нового дома с вывеской "Парик-махерская". Из подъезда пахнуло свежей краской и этот запах прорезал плотный холод улицы.
- Не тушуйся только, - повторил, словно подбадривал самого себя. Невысоко, так поднимемся, робковато улыбнулся, обходя новенькую кабину лифта.
- Как к генералу идешь, - пошутил Курчев.