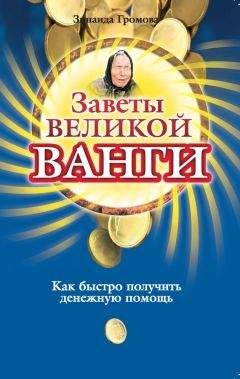Павел Катаев - Доктор велел мадеру пить...
Все ждали.
Поэт и мыслитель бросился было к выходу, но остановился, на мгновение задержался у открытой двери и бледный вернулся к столу.
- Ну, что же вы!
- Не буду стричься! Оставьте деньги себе!
А вывод отец делал такой: упомянутый персонаж никак не мог постричься, потому что остаться без волос было для него равносильно самоубийству.
Достаточно ему было лишиться своей отличительной черты, густых благородных седин, как и вся личность точно по волшебству рассыпалась бы и вместо романтической значительности остался бы пшик.
И второй эпизод.
Однажды в небывалом ажиотаже и волнении седовласый мыслитель появился в компании и с порога провозгласил:
- Я въехал в Кремль на "Пежо"!
- А выехал на "жопе" (с ударением на последнем слоге), - немедленно раздался насмешливый голос отца.
Главной притягательной силой во время того нашего приезда в Ленинград был Эрмитаж. Причем не весь бесконечный музей, а несколько залов на третьем этаже, где выставлены работы великих французских импрессионистов.
Прежде чем добраться до импрессионистов, мы, разумеется, прошли по гулким и малолюдным залам знаменитого на весь мир музея, собравшего в своих стенах бесценные произведений мирового искусства.
В скобках отмечу, что обычно Эрмитаж наполнен посетителями, а в просторном вестибюле как правило бывает настоящая толчея. Но вот в тот раз здесь было пустынно, словно бы судьба пожелала ни в малейшей степени не мешать свиданию с удивительными полотнами.
Конечно же, огромные, в широких вычурных рамах, потемневших от времени, полотна голландцев, - да и не только голландцев! - впечатляли.
Многие из них в действительности и не были столь уж огромными, а, были, можно даже сказать, среднего размера, но емкие фигуры и предметы, удивительно высвеченные, словно бы с напряженным вниманием выглядывающие из гениального сумрака, существовали вне каких бы то ни было рамок.
Мы молча переходили от картины к картине, из зала в зал, будто бы даже не обращая внимания друг на друга, но я чувствовал, что весь нахожусь под влиянием отца, ловил его взгляды и изменяющееся выражение лица, приостановки или ускорения у той или иной работы.
В частности, именно отец каким-то чудесным образом заставил меня вглядеться в картину Тициана "Последняя вечеря", где удивительным, волшебным образом смешивается искусственный свет догорающей свечи с естественным светом наступающего утра, проникающим сквозь щель в дверях...
Импрессионизм, да и только!
Но вот наконец мы стали подниматься по светлой лестнице на третий этаж, и тут словно что-то ударило в душу, глаза широко раскрылись, и уже не гениально изложенная жизнь, а сама жизнь, яркая, отчасти корявая, не очень даже приятная, задевающая за живое, вдруг показала себя в ясных, отчетливых прямоугольниках, скромно развешенных по скромным, чуть ли не учрежденческим стенам.
Лондонские мосты и туманы Клода Моне, таинственные красавцы и красавицы Ренуара, французские мужчины Сезанна, балерины Дега, танцующие фигуры Матисса...
Здесь я отчетливо осознал, какое искусство близко моему отцу, что доставляет ему наслаждение и, может быть даже, к чему он стремится в своем творчестве.
Вспомнился довольно странный и смешной случай, который произошел в те времена.
Под "теми временами" подразумевается эпоха социализма.
Дело было летним днем в дачном поселке Переделкине, так называемом "городке писателей", в конце семидесятых, а может быть и начале восьмидесятых годов.
Сильных отличий одного года от другого не наблюдалось, разве что какой-то год предшествовал очередному съезду "нашей родной коммунистической партии", а другой (или чреда других) - следовал за ним.
Сама же жизнь двигалась со скрипом, оставаясь неизменной.
Изменялось лишь то, что никак не могло не изменяться - человеческое тело старело, деревья мертвели и засыхали, строения ветшали и приходили в негодность.
Так вот, мы с отцом по обыкновению гуляли по Переделкинским улица - делали "круг", иногда отступая на пыльную обочину, чтобы пропустить очередной автомобиль. Мы словно бы парад принимали. Вот проехал какой-то дачник с примелькавшимся лицом, а вот бледный горожанин в пиджаке и при галстуке.
Сотрясаясь и щедро выплескивая влагу, прогромыхала ассенизаторская бочка.
Иногда тот или иной автомобиль подвергался нелицеприятному анализу.
Иногда же мирно пропускался.
Издалека завидев очередной автомобиль, мы отошли в сторонку - тут как раз оказался въезд в адмиральскую дачу.
- Ну, проезжай же... - притворно сердясь, проговорил отец.
Поравнявшись с нами, "уазик" остановился и из окна с опущенным стеклом высунулся распаренный от жары водитель, мордатый парень в "бобочке" и с ужасно озабоченным лицом.
- Это Переделкино?
- Переделкино.
- Городок писателей?
- Городок писателей.
- Не подскажете, где здесь склад?
Он нас спрашивал, а мы наперебой отвечали. До сих пор все шло хорошо. Но тут произошла заминка.
- Какой склад?
- Ну как какой? Склад и склад.
Тут во мне проснулось какое-то понимание. Я с детства знал и очень любил литфондовский склад, где выписывались и покупались разные интересные товары - электрические провода, доски. фанерки, гвозди и так далее. и тому подобное.
- Литфондовский склад, что ли?
- Ну да! - воскликнул парень с облегчением. - Литфондовский, верно! Так и сказано!
- Ну так это совсем просто. Склад находится на улице Погодина, в сторону кладбища. Вам надо развернуться и...
Я подробно стал объяснять водителю, как проехать к складу. но тут в разговор вступил папа.
- А есть и второй склад, на улице Лермонтова. Можете не разворачиваться, а ехать прямо, потом свернете направо, на Гоголя, а потом еще раз направо, на Лермонтова. Совсем близко.
Терпение у водителя лопнуло.
- А пленку куда вести - на Погодина или на Лермонтова?
- Какую пленку?
- Обыкновенно какую, - обиделся водитель. - Магнитофонную...
- Магнитофонную ленту? И много?
- Как много? - переспросил парень. - Несколько коробок...
Мы с папой не удержались и начали хохотать, а водитель в недоумении отправился разыскивать склад, чтобы сдать несколько коробок магнитофонной пленки. Всю дорогу до дома мы фантазировали, как же эту магнитофонную ленту будут использовать в городке писателей...
Уже стало общим местом утверждение, что все выдающиеся писатели и поэты России двадцатого века - дети революции. Разумеется, это так. Другое дело, как революция отнеслась к своим детям. Она относилась к ним бездушно и жестоко, отправляя на казни и каторгу, коверкая судьбы.