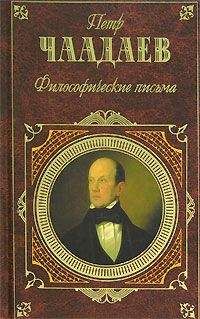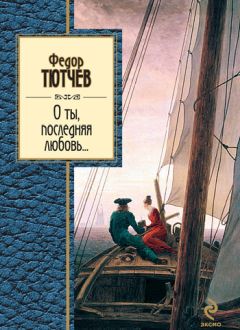Ольга Симонова-Партан - “Ты права, Филумена!” Об истинных вахтанговцах
Такого рода интеллигентский эскапизм принимал гротескно-преувеличенные формы. Восточной мудростью, коварством и необходимой для правителя жестокостью Рубена Николаевича Симонова отец не обладал. Он был полукровкой — и многие мягкие стороны своего характера, свою незлопамятность унаследовал от матери-дворянки. Ему было всех жалко, он всех был готов поить и кормить за свой счет, никого не увольнял, и эта жалостливость приводила к тому, что в его близком окружении оказывались ничтожные, мало что из себя представляющие люди, которые при первом же удобном случае предали его или не приложили никаких усилий, чтобы стать на его защиту. Порой мне становилось страшно за него, но остановить процесс было невозможно. Любые, даже самые незначительные замечания с моей стороны вызывали протест и озлобление в мой адрес. Я давно уже научилась принимать его таким, каков он есть, но то, что приемлемо для дочери, не было уже приемлемо для большинства артистов труппы.
Противостояние Михаила Ульянова и отца не вызывает у меня никакого недоумения. Оба они имели полное право недолюбливать друг друга и считать творческое кредо каждого ограниченным и вредным для Театра. Отец и Ульянов были ровесниками, но людьми совершенно разных социальных формаций. Отец, ценя Ульянова как превосходного актера, с которым он сделал свои лучшие спектакли, всегда подтрунивал за глаза над его советским менталитетом, заземленностью и глухоте ко всему духовно-возвышенному — музыке, поэзии, живописи. Ульянов в свою очередь (что становится особенно ясно из его недавно опубликованных дневников), был взбешен отцовской аполитичностью и нежеланием вникать в перемены, происходящие вокруг него. Для Ульянова, талантливого сибирского самородка, но продукта системы, Евгений Симонов с его музицированием и поэтичностью был никому не нужным атавизмом в центре Москвы. Ему казалось, что он способен управлять театром куда успешнее. Судя по все тем же ульяновским дневникам, сам он к концу дней своих потерпел страшнейшее фиаско как художественный руководитель и не раз обращался мыслями к истории свержения отца.
И все же самую низкую роль в закулисном заговоре сыграли не вахтанговские знаменитости — не Лановой и Ульянов, которые заседали на тайных партийных собраниях (они как многого достигшие в своем творчестве художники имели полное право на противостояние отцу и недовольство), — эта неблаговидная роль досталась ближайшему другу отца, Евгению Евгеньевичу Федорову, безвестному артисту на три слова, в то время секретарю партийной организации театра. Удалось наконец-то артисту хоть за кулисами на старости лет выступить в значительной роли! Федоров был своего рода вахтанговской желтой прессой — главный театральный сплетник, он доносил отцу на всех и всем на отца и смеялся над ним же за его спиной. Сколько мама ни предостерегала отца, все было бесполезно: “Я тебе вот что скажу, идиот ты эдакий, он к тебе приставлен!” — заходилась мама после ежевечернего отчета-разговора между дружками. “Не кликушествуй, Лера! Женька мой друг”, — был обычный отцовский ответ. Думаю, он был привязан к Федорову как к своего рода денщику и всегда поил и кормил его за свой счет.
Именно Федорову позвонил мой беспартийный отец накануне рокового партийного собрания, где партийная организация театра должна была тайно от всей трупы обсуждать вопрос о снятии Евгения Рубеновича Симонова с должности главного режиссера. Отец, по привычке, позвонил своему другу-приятелю, чтобы спросить секретаря партийной организации о повестке дня завтрашнего собрания (беспартийному отцу иногда, по долгу службы, надо было присутствовать на партийных собраниях). Федоров ответил: “Нет, нет, тебе, Женюра, приходить не надо — мы просто примем Пупкина и Шлюпкина в партию и вся недолга!” — и обрадованный Евгений Рубенович, пошел разучивать очередной оперной клавир — какое счастье на собрание не тащиться! Как это ни удивительно, он не имел ни малейшего представления о том, что готовился дворцовый переворот. Такого промаха никогда бы не могло произойти в период царствования моего деда — оттого, что он был коварный восточный политик и имел вокруг себя штаб приближенных, преданных ему единомышленников. Его вельможи играли короля.
Вскоре после партийного собрания состоялась публичная экзекуция отца в присутствии всей труппы.
25 сентября 1987 года. Экстренное общее собрание всей вахтанговской труппы в знаменитом зрительском фойе под портретами. Повестка дня — снятие народного артиста СССР Евгения Рубеновича Симонова с поста главного режиссера.
Вспоминает актриса театра Елена Сотникова, ученица отца, присутствовавшая на собрании, о том, что было после:
— Столько лет прошло, но некоторые моменты у меня отпечатались в памяти на всю жизнь. Всплывает в памяти то, как Евгений Рубенович стоял в нашем зрительском фойе. Он стоял у этого большого зеркала, где висят все портреты, а вся труппа сидела напротив. Вот эта его поза, знаешь, одна нога вперед, как бы для равновесия… немного покачивая головой. Сидела какая-то партийная комиссия — Федоров, еще кто-то. Евгению Рубеновичу были предъявлены обвинения в том, что он многое ставит один в театре, не допускает других режиссеров, что он занимает молодежь, а не среднее и старшее поколение, что последние спектакли типа “Енисейских встреч” провалились.
Он все это выслушал очень достойно и изящно сказал, что он благодарит труппу театра за 40 лет счастья совместной работы, и пожелал всем нам всего доброго. Раскланялся и пошел в сторону своего кабинета. И все… Была гробовая тишина, все замерли, а когда он скрылся из виду, многие стали плакать. Прямо в голос. И тут Федоров сказал:
— Ну что же, а теперь продолжим наше собрание!
И Максакова закричала:
— Иуда!
Вот это я очень хорошо помню. Именно эти моменты.
А вот как вспоминает об этих событиях Людмила Максакова:
— Это было огромное собрание в большом фойе. Пришел Мелентьев [в то время министр культуры РСФСР] и сказал, что Евгений Рубенович будет главным режиссером театра Дружбы Народов, а Михаил Александрович возглавит наш театр. Встал Евгений Рубенович, очень собранный, очень спокойный, очень достойный, и сказал: “Я вам всем хочу сказать только одно, что я всех вас очень любил, и я всем вам и сейчас желаю только добра и желаю вам только процветания и никаких злых помыслов у меня по отношению к вам нет, я всегда старался сохранить театр, и хотел чтобы вы все были защищены…” Но это я примерно рассказываю. Воцарилась мертвая тишина. Вот бывает такая — мер-тва-я… А Евгений Рубенович всегда носил очень хорошую обувь. Всегда. И по этому гулкому фойе только прозвучали вот эти вот ток-ток-ток — ток-ток — его шаги. И вот это я запомнила. Это было ужасно. Потом многие рыдали. С кем-то истерика случилась. У меня было действительно такое ощущение, как будто меня ножом пырнули в грудь. Ужасное ощущение…