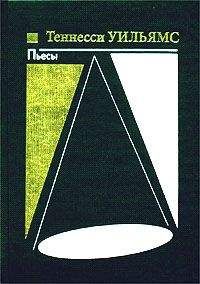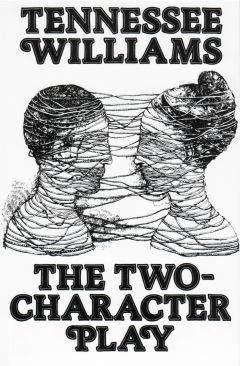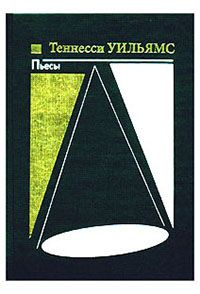Теннесси Уильямс - Мемуары
Тем летом я полюбил Антона Чехова, по крайней мере, его рассказы. Они ввели меня в мир восприимчивой, отзывчивой литературы, что мне было в то время очень близко. Теперь я понимаю, что у него очень многое скрыто под текстом. Я все еще люблю тонкую поэтичность его письма, а «Чайку» я считаю величайшей современной пьесой, может быть, единственное исключение — «Мамаша Кураж» Брехта.
Часто говорят, что наибольшее литературное влияние на меня оказал Лоуренс. Да, Лоуренс в моем литературном воспитании был в высшей степени фигурой simpatico[17], но Чехов по своему влиянию превосходит все — если вообще было какое-нибудь влияние, кроме моих собственных наклонностей — в чем я не очень уверен, и, наверное, никогда не буду уверен…
Вчера Дональд Мэдден напомнил мне о моем обещании сделать новую адаптацию «Чайки» (мы оба чувствуем, что ей никогда не удавалось вырваться из смирительной рубашки перевода, даже у Старка Янга), и о моем стремлении поставить ее — с Мэдденом в роли Тригорина и Анной Мичэм в роли Нины или Аркадиной.
Но вчера я слегка покачал головой по поводу этого честолюбивого проекта и сказал — никакой жалости к себе — что у меня сейчас нет времени писать что-нибудь, кроме этой «вещицы», моих мемуаров, и, может быть — окончательной версии «Молочного фургона» для Майкла Йорка и Анджелы Лэнсбери…
Летом 1934, когда я стал драматургом, по соседству с дедом в Мемфисе жила одна еврейская семья, в которой была очень добросердечная и располагающая к себе девушка — Бернис Дороти Шапиро. Она была членом небольшого драматического кружка в Мемфисе. Свои работы они демонстрировали на большой пологой лужайке одной леди — миссис Роузбро, фамилия которой напоминала их название — «Rose Arbor» («Ствол розы»). Дороти хотела, чтобы я помог ей написать пьесу для группы — она понимала, что я — писатель, а она — нет. Я написал пьесу «Каир, Шанхай, Бомбей!» — фарсовую, но довольно трогательную маленькую комедию о двух матросах на свидании с группой женщин легкого поведения. Бернис Дороти Шапиро написала совершенно ненужный, и, должен признаться, очень слабый, пролог. Слава Богу, пролог был коротким — это все, что я могу вспомнить о нем хорошего.
Пьеса была поставлена в конце лета. Она была недлинная, но имела большой успех у группы. В программе я стоял как соавтор — после Дороти. И все же смех, настоящий, громкий, в комедии, которую я написал — вдохновлял меня.
Время от времени мы с театром находим друг друга, что бы ни случилось.
Я знаю: это единственное, что спасло мне жизнь.
Тем же летом 1934 года в Мемфисе, когда я начал реализовывать свое стремление — которое я давно в себе подозревал — писать для театра, я начал реализовывать и другое свое стремление, которое тоже иногда подозревал — к молодым людям. И хрупкость своей физической природы.
Однажды я был с двумя университетскими студентами, друзьями деда. Они были исключительно красивы; одни — темноволосый, другой — сияющий блондин.
Задним числом я понимаю, что они должны были быть любовниками. Они взяли меня с собой на озеро вблизи Мемфиса, где был пляж — и любовная муха укусила меня в форме эротического стремления к блондину. Мне кажется, интерес был взаимным, потому что однажды вечером он пригласил меня на ужин в ресторане отеля «Пибоди». Мы взяли пиво; сомневаюсь, что только пиво послужило причиной сильного сердцебиения, внезапно начавшегося у меня. Я запаниковал, блондин тоже. Вызвали доктора. Эта дама оказалась очень плохим врачом. Она дала мне какую-то болеутоляющую таблетку, но мрачно сообщила, что мои симптомы — самой серьезной природы.
— Вам все надо делать осторожно и очень медленно, — сказала эта мрачная дама. И сообщила мне, что — со всей осторожностью и медлительностью — я смогу дожить до сорока!
— Я так рад, что вы сказали ему это, — пролепетал бедняжка блондин, — а то он бегает по улицам слишком быстро для человека с сердечными проблемами.
Этот инцидент привел к возвращению кардионевроза, который тем летом только-только начал ослабевать.
Мой первый и последний доведенный до конца сексуальный опыт с женщиной имел место несколько позже, когда я вернулся на год на кафедру драмы в университете штата Айова. Это было осенью 1937 года. Девушка была, по всей видимости, прирожденной нимфоманкой; я буду звать ее Салли. Она была не только нимфоманкой, но еще и алкоголичкой, со мной у нее все началось внезапно, яростно и стремительно незадолго до того, как моя вторая длинная (полупрофессиональная) пьеса «Кочевая натура» была поставлена группой «Фигляры» из Сент-Луиса. Оттого, что мою пьесу играют в Сент-Луисе, у меня горели глаза весь тот год в Айове. Салли поэтому нашла меня интересным, хотя, подозреваю, я и не был некрасивым. У меня была стройная фигура пловца, а катаракта на левом глазу еще не появилась. У Салли был почти этрусский профиль — лоб и нос образовывали прямую линию — полные и чувственные губы, а ее дыхание всегда приятно отдавало табаком и пивом. Она была прекрасно сложена, особенно — ее груди, самые заметные во всем университете.
Однажды вечером, в начале осени, она выпросила у своей подруги квартиру — для моего соблазнения. Помню, что по радио передавали самые подходящие старые песни — «Поцелуй меня снова», «Хочу обнять тебя», «Обещай мне», как будто мы их заказывали специально, и вскорости мы уже оказались на диване голыми, я не мог его поднять никак, никак, и вдруг меня стало тошнить — от выпитого, от нервного напряжения и смущения. Я помчался в туалет, меня вырвало, я вернулся, завернувшись в полотенце, сгорая от стыда за провал своего испытания на зрелость.
«Том, ты коснулся самой потаенной струны моей души, материнской струны», — сказала она.
На следующий день я пошел к ней домой, в меблированную комнату, где она жила. На ней были темно-красные лыжные брюки и белый свитер, подчеркивающий торчащие большие груди. Она выключила свет в прихожей и подтолкнула меня к дивану.
Ее старания имели дикий успех. Она расстегнула молнию на своих лыжных брюках, и я трахнул ее, не снимая своего пальто. Нас два или три раза прерывали соседи, возвращавшиеся в свои комнаты. Она застегивала брюки, я — пальто, но никого это не обманывало, и никого не трогало, потому что это был довольно распутный дом. Все соседи, наконец, поднялись наверх, а мы вернулись к нашему дикому процессу прерывания моего девственного статуса.
Я чувствовал себя как утка в воде. Она меняла позиции, она садилась на меня, она качалась на моем члене, как на детской лошадке, а потом она кончила — это было что-то невообразимое, когда что-то жидкое и горячее взорвалось внутри нее и вокруг моего члена, ее сдавленные затихающие вскрики…