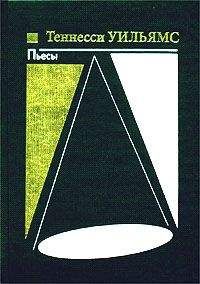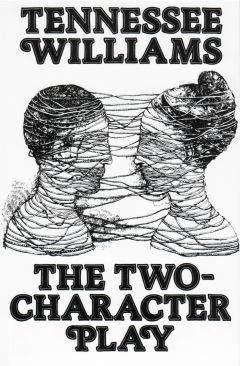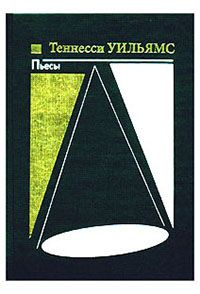Теннесси Уильямс - Мемуары
Билл Хикки теперь единственный из мужчин защищал меня, хотя Патрик Бедфорд, как всегда, был настроен дружески. Но я — скорее всего из-за оскорбленного эго — был взвинчен после спектакля, и сказал, прикрываясь юморком, что с этого момента я буду пользоваться женской грим-уборной, или отдельной, выделенной для Канди Дарлинг как трансвестита.
Я покинул театр в костюме, зайдя перед уходом к Канди, и попросив ее пойти со мной в ресторан Джо Аллена, ночное заведение для театральных людей на Западной сорок шестой, о котором она хорошо отзывалась за день до этого. Она оделась в блестящем стиле пятидесятых: очень идущий ей белокурый парик и черная бархатная шляпка с бриллиантом впереди.
Мы постарались избежать одновременного появления у Джо Аллена, потому что Канди ростом выше метра восьмидесяти, а я только метр семьдесят два. И на мне — «шляпа плантатора», стетсон за тридцать долларов с широкими загнутыми вверх полями, которую я купил для роли Дока.
Нас очень сердечно приняли в ресторане, мы мило поговорили. Канди прочитала написанное ею стихотворение под названием «Звездная пыль», очень трогательное. Мы поговорили о нашей частной жизни, об одиночестве, о наших трудностях «с мужчинами». Потом я отвез ее домой — в двухкомнатную квартиру рядом с церковью Христианской науки (от которой, как она говорит, исходят хорошие вибрации) — и когда мы подошли ко входу в ее квартиру, она пригласила меня войти, но я отказался. Я устал и пить больше не хотел.
Мой третий год в университете штата Миссури был относительно бесцветным. Мой обожаемый Смитти не вернулся, а новый сосед меня совершенно не интересовал. Весной того года у меня была горькая и невинная любовная история с девушкой по имени Анна Джин. Мои чувства к ней были совершенно романтическими. Она была очень красивой, жила прямо через дорогу от женского общества Альфа Хи Омега, и у нее было приятное чувство юмора. Я написал ей маленькое стихотворение, точнее, несколько стихотворений. Вот одно из них:
Смогу ли я когда-нибудь забыть
Ту ночь, когда ждала ты, стоя рядом
Со мной у твоей двери — можно ль было
Сказать яснее — большего ждала?
Ты мне читала строки о любви —
Такой же юной, как и мы, пока стояли
У твоей двери запертой, вдыхая
Дождливо-сладкий леса аромат.
Я, как дурак, не понимал намеков,
Не понимал, чего же ты ждала,
Ты улыбнулась — ты была права —
И дверь свою тихонько заперла.
Это был мой последний год в первом из трех моих университетов. У меня были хорошие оценки по английскому и еще по двум-трем предметам, но я провалился на военной подготовке и имел плохие оценки по нескольким другим дисциплинам.
Когда я вернулся домой, отец объявил, что больше не может позволить себе содержать меня в колледже и нашел мне работу в филиале Международной обувной компании.
Эта работа затянулась на три года, с 1931 по 1934 год. Я получал шестьдесят пять долларов в месяц — была депрессия.
Я бы и вообще ничего не взял за эти три года, потому что они научили меня, насколько позорно корпорации относятся к судьбе белых воротничков.
Я получил работу, потому что отец достиг уже высших руководящих постов в филиале «Континентал Шумейкерс». (Дело происходило еще до игры в покер, заката и падения «Большого Па».) Конечно, боссы страстно желали найти любой повод, чтобы выставить меня. Мне поручили самую скучную и утомительную работу. Я должен был каждое утро вытирать пыль с сотен пар туфель в торговом зале; после чего в течение нескольких часов печатал заказы фабрике. Цифры, только цифры! Около четырех дня меня посылали в заведение нашего основного клиента, Дж. С. Пенни, с большой упаковкой обувных коробок, которые там должны были принять или отвергнуть. Коробки были такими тяжелыми, что я едва мог их поднять: мне удавалось протащить эти коробки только полквартала, после чего я бросал их, чтобы передохнуть.
Я многое узнал о товариществе между коллегами, получающими минимальную зарплату, нашел много хороших друзей, особенно одного парня — поляка по имени Эдди, который «принял» меня под свое крыло, и девушку по имени Доретта, которой Эдди был увлечен. За соседним столом работала незамужняя женщина, маленькая полненькая Нора. Работая, мы постоянно с нею перешептывались — о том, что видели хорошего в кино или на сценах города, что слышали из радиоспектаклей — вроде «Эймоса и Энди»[14].
В первый мой год на этой работе я достиг возраста, когда мог участвовать в выборах, и участвовал, в первый и в последний раз. Я голосовал за Нормана Томаса[15]: я стал социалистом, по причинам, которые уже стали вам ясны.
Хейзл все еще училась в Висконсине. Она пела на радио — с заметным успехом. Я продолжал видеться с ее матерью, миссис Флоренс, по крайней мере, раз в неделю.
Я начал писать по ночам. Я писал по одному рассказу в неделю, и как только заканчивал рассказ, отправлял его в знаменитый литературный журнал, «Story». Это было время, когда там произвел сенсацию молодой Сароян с «Молодым человеком на трапеции». Вначале издатели подбодрили меня — маленькими и точными критическими замечаниями. Но скоро я начал получать от них эти ужасные «формальные» отказы.
По субботам я не работал на «Континентал». На эти чудесные дни отдыха расписание у меня было неизменное. Я ходил в Коммерческую библиотеку в самом центре Сент-Луиса и жадно читал там; за тридцать пять центов обедал в приятном ресторанчике. Я отправлялся домой на «обслуживающей машине» — и сосредотачивался на «недельном» рассказе. Конечно, все воскресенье посвящалось завершению рассказа.
В будние дни я работал над стихами: боюсь, далеко не выдающимися, по некоему случаю я одолел даже сонет — наверное, самый страшный из всех когда-либо сочиненных. Хотя — сейчас он мне кажется достаточно комичным, чтобы привести его целиком.
Я вижу здесь всех поэтесс своей страны
В гробах и в саванах, немых, как их надгробья.
И в каждом — прах и тлен, что раньше было им
Религией — их красоты истлевшее подобье.
Как травы зимние, безжизненно, мертво.
Непроницаема немая бесконечность.
Песнь отнята у губ, у рук — перо.
Они ушли в беспесенную вечность.
Сапфо и Уайли — больше ваших лир
Не существует — Смерть разбила в щепы.
Ей все равно, каким огнем охватит мир,
Когда разбить их памятник нелепый.
О Смерть, я всех тебе прощу, кого взяла,
Пока ты славную Миллей не забрала.
Мои труды над рассказами, в те времена ограниченные только выходными и подстегиваемые крепким кофе, приносили более зрелые плоды: большинство из них хранится в архивах университета штата Техас.