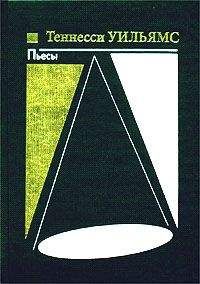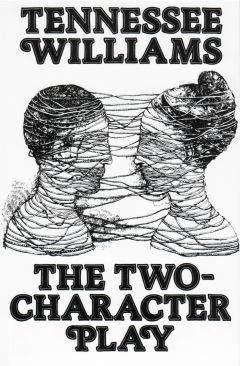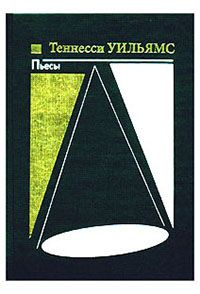Теннесси Уильямс - Мемуары
Она уделила мне только несколько минут наедине, в алькове.
— Я люблю тебя, Том, и не хочу делать тебе больно, милый, но я нехорошая — я не беременна, я все сочинила, на самом деле мне оперировали яичник, но все дело в том, что я одержима сексом, я хочу его с каждым, и я бы затрахала всю твою жизнь.
Она позволила обнять и поцеловать себя и вернулась к своему новому парню. Я был в отчаянии — правда, недолго. А потом подружился с молодым человеком по имени Ломакс и с его подружкой-негритянкой; это были замечательные друзья, вместе со мной они занимались драмой.
Я играл пажа в «Ричарде Бордосском», и они предложили загримировать меня. Нарумянили щеки, накрасили губы, завили волосы. Потом Ломакс натянул на меня костюм пажа и привел к своей подружке на инспекцию.
— Видишь, что я имел в виду? — спросил он ее. Я не сообразил, что он имел в виду. Потом посмотрел в зеркало и все понял. Я был похож на девушку…
В роли пажа у меня была всего одна реплика. Я все еще не избавился от своей ужасной скромности. Появившись на сцене, я должен был сидеть у рампы и полировать свой шлем, и мое горло схватывало все сильнее и сильнее в предчувствии этой единственной реплики. Я просто должен был сказать, что кто-то появился у ворот. Но когда подошла моя очередь, звуки, которые выходили из моего пересохшего горла, были совершенно неразличимы, зал чуть не рухнул — это был мышиный писк. Говорили, что было здорово. Подозреваю, однако, что меня выпустили на сцену только потому, что я так хорошо смотрелся в гриме, наложенном Ломаксом.
Помню, что я играл еще одну роль в большом театре университета Айовы. Пьеса была о секте кающихся, и я был занят в сцене самобичевания молодых монахов. Мне никогда не забыть одной строчки из этой сцены, сочиненной здесь же, среди исполнителей. Один из актеров болтался по сцене с голыми плечами, стегая себя своим кнутом, и громко кричал: «Многая слава Мораде» (Морада — подземная камера, где происходили эти самобичевания).
Фигуру Христа, бывшего жертвой ритуального распятия, играл Флейшман, лучший из молодых актеров этого курса. Его, почти обнаженного, поднимали на крест — и именно его мужественная молодая красота вернула меня к доминирующей сексуальной наклонности.
Салли начала таять в моем либидо.
Представители моего пола начали заполнять его.
Однажды во время репетиций «Ричарда Бордосского» Лемюеля Эйрс, аспирант, который, вроде меня, был в немилости у мистера Мейби, главы кафедры драмы, перед спектаклем расхаживал по мужской раздевалке совершенно голым. Он был похож на юного святого — черные блестящие локоны, идеально сложенное тело.
Как-то вечером мы встретились с ним в маленьком зоопарке на холме. В тот момент, когда мы увидели друг друга, раздалось громкое хлопанье крыльев:
— Что это?
— Цесарка взлетела на насест.
Мы остановились ненадолго — хотя мне хотелось бы, чтобы это длилось вечно — но Лем, подозреваю, привык к более агрессивным типам — он улыбнулся и ушел.
Весна была одинокой. Так много денег ушло на квартиру, которую я делил с Абдулом, что мне пришлось целый месяц жить почти исключительно на яйцах, которых в тот сезон был переизбыток, отчего они были очень дешевы. Я все еще люблю яйца, хотя теперь мне их запрещают из-за высокого уровня холестерина, но, поверьте, они кажутся отвратительными, если есть только их.
А потом мне повстречался удивительно яркий молодой ирландец, он брал меня на долгие прогулки на каноэ по реке Айова; мы заплывали в уединенную бухточку, где распевали ирландские баллады. Когда в городе был карнавал, он потащил меня и туда.
К учебе я потерял всякий интерес, экзамены завал ил и должен был остаться на все лето на дополнительный семестр. Весь этот семестр я провел почти исключительно с Ломаксом и его симпатичной подружкой-негритянкой.
Мне совершенно не хотелось получать диплом, не хотелось покидать колледж. В стране продолжалась депрессия.
Произошли сразу две ужасные вещи: Розу подвергли лоботомии, одной из первых операций такого рода в Америке, и моя тетя Белли умерла в Ноксвилле в результате инфицирования зуба мудрости, яд из которого распространился по всему организму.
Тетя Элла написала: «Твоя бедная тетя Белли была окружена мощным валом молитв, но смерть преодолела его».
Я тогда только что освоил индивидуальный стиль письма. Помню, как написал рассказ «Проклятие» и несколько симпатичных стишков.
Когда летний семестр закончился и я получил свой диплом, Ломакс и его черная подружка пригласили меня отправиться с ними в Чикаго, сказав, что я могу там рассчитывать на писательский проект Управления общественных работ (УОР). Но встретили мы там каких-то фантастических черных гомосексуалистов, развлекавшихся в диком ночном клубе. Помню одного, особенно пестрого, который заметил: «Ты знаешь, я каждую командировку ложусь под кого-нибудь», — он имел в виду, что любил играть пассивную роль в содомском виде разврата. Я пытался попасть в проект УОР, но мне отказали, потому что я не смог доказать, что моя семья нуждается. В Чикаго у меня на все про все было десять долларов, и мне пришлось давать домой телеграмму и просить денег, чтобы вернуться назад в Сент-Луис.
Кларк Миллз Макберни[18] был там, в Сент-Луисе, проездом из Парижа, и мы возобновили нашу дружбу. Лето было чудесным. Были и еще друзья, были пикники на реке Мерамек, были постоянные развлечения. Отец несколько раз разрешал мне брать наш семейный «Студебеккер» — он все еще пытался преодолеть мою ужасную застенчивость. Я был очень важен для него, потому что был полным тезкой его собственного отца, Томаса Ланира Уильямса II.
Пока я еще не удалился в своем рассказе от университета Айовы, позвольте мне рассказать вам о мистере Мейби, который возглавлял там кафедру драмы. Уже несколько лет Мейби страдал, как говорили, от неоперабельной опухоли головного мозга, доброкачественной, но делавшей его поведение иногда совершенно сумасбродным. Он был очень привязан к большому новому театру, который воздвиг на территории университета, и всегда присутствовал на заключительных репетициях каждого нового спектакля.
Как-то раз спектакль перед самым открытием был в таком плачевном виде, что Мейби пришел в ярость. Он снял свои очки и швырнул ими в актеров, а потом заставил их репетировать всю ночь, пока переделанный спектакль не удовлетворил его.
Мейби был настроен против меня и против Лемюеля Эйрса. Он постоянно намекал, что Эйрс, аспирант, приехавший из Принстона, был гомиком — что и я подозревал, но только я считал его очень талантливым, совершенно не заслуживавшим преследований Мейби.