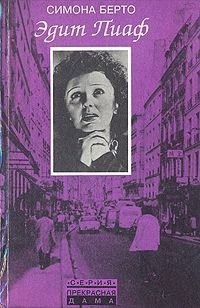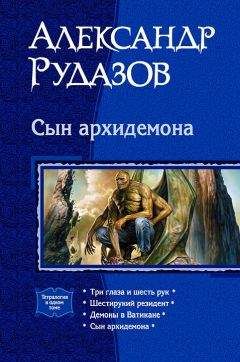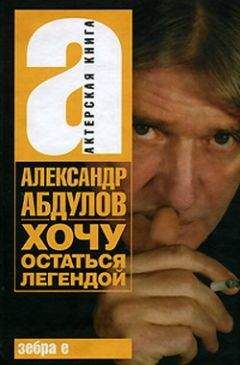Эдит Пиаф - Моя жизнь
И каждый раз, стоило мне только закрыть глаза, я начинала видеть их.
Это длилось два дня. Я думала, что сойду с ума. Сиделки держали меня, прижимая к кровати, вытирали слезы и пот, которые смешивались у меня на лице. Как паяц, сотрясаемая дрожью, я билась и кричала: «Защитите меня! Карлики вернутся, они хотят меня убить. Умоляю, прогоните их!»
Я кричала и просила сжалиться надо мной, звала на помощь, молила небеса, чтобы мой кошмар кончился, и я призывала смерть, которая спасла бы меня от страха.
И вдруг к концу второго дня гномы и хирург исчезли словно по волшебству. Наконец! Больше бы я не выдержала. Вошел доктор и сказал: «Теперь вы поправитесь».
И я выздоровела. С этого дня я ни разу не притронулась к спиртному.
Другие
Никто из тех, кого мне приходилось выручать в трудную минуту, не знает и не догадывается, в чем настоящая причина того, почему я не могу удержаться от помощи другим.
Всем, что они должны мне, они обязаны одной маленькой умершей девочке и доброте одного неизвестного.
Я бы хотела, чтобы этот незнакомец прочел эти строчки и узнал себя в них. Его поступок имел для меня такое значение, о котором, конечно, он не мог и подозревать. Но, думаю, узнав об этом, он был бы доволен.
Я должна вернуться в далекое прошлое. Воспоминания в моей усталой голове не занесены в аккуратный список с точными датами, начиная с самой отдаленной и заканчивая последними.
Все смешивается, а потом беспорядочно всплывает в памяти. Одно освещено ярче, другое — бледнее.
Знаете, как только я вспоминаю свои шестнадцать лет, мне хочется плакать. Нет, не надо завидовать мне, лучше пожалейте.
Сейчас я знаменита, обо мне говорят: «Сколько же она зашибает денег!»
Миллионы, миллиард, может быть, это правда. Но эти деньги я швыряю куда попало.
Почему? Потому что мне нравится быть расточительной. Я так мщу за себя.
Мщу за то, что ребенком спала на тротуаре.
В дни своих триумфов я хохочу как сумасшедшая, потому что вспоминаю свою молодость.
У меня такое чувство, что я победила судьбу, заставившую меня родиться в самом низу социальной лестницы, там, где не возникает никакой надежды.
Но даже грандиозный триумф не в силах затмить самое страшное из моих воспоминаний: ту ночь, когда я была так бедна, что хотела продать себя за десять франков. Да, за десять франков!
Если вы всегда спали в постели, которая ждала вас в доме, теплом — зимой, прохладном летом…
Если у вас были родители, которые заботились о вас, ласкали, тревожились о вашем здоровье… Тогда, боюсь, вы не поймете, будете шокированы и осудите меня еще суровее, чем всегда. И все-таки…
Попытайтесь себе представить. Мне было пятнадцать с половиной лет, когда я сбежала с Малышом Луи. Надо было жить.
Я нанялась прислугой, выполнявшей всю работу по дому. Но я не создана для домашнего хозяйства, я — дочь уличного акробата. Меня рассчитали один раз, другой, третий: я бью слишком много посуды, я ничего не успеваю, я — нахалка.
Тогда я поступила на обувную фабрику к Топэн и Маске. Зарабатывала около двухсот франков в неделю. Я трудилась над башмаками три месяца, пока не почувствовала себя плохо. Меня отправили в лазарет, и там врач сообщил мне, что я беременна. Меня уволили — таково правило. Но несмотря ни на что я радовалась своему будущему материнству.
Я родила в госпитале Тенон, а затем очутилась с Малышом Луи и нашей маленькой Марсель в отеле «Л'Авенир» на улице Орфила, 105. Комната с потрескавшимися стенами была окнами во двор. У окна на веревке висели пеленки и наша одежда. Под кровать я сваливала чемоданы, запихивала старую бумагу, грязное белье и сметала весь мусор.
Но все же мы с Малышом Луи были счастливы как дети оттого, что у нас родился ребенок.
Только вот денег у нас не было ни одного су. Пришлось удирать из отеля украдкой, ползти на четвереньках мимо комнаты привратника.
Мы поселились в другом отеле, на улице Жер-мен-Пилон. Это отсюда я убежала однажды ночью, связав простыни и спустившись по ним из окна.
Но так не могло продолжаться долго. Малыш Луи по-прежнему работал в магазине. Я поручила нашу малышку одной из женщин, живущих в нашем отеле, и отправилась петь на улицах.
Это было началом моих непрерывных хождений. У меня такое впечатление, что два с половиной года я не переставая ходила, или бегала, когда меня преследовала полиция…
В течение долго времени мы с девчонкой Зефериной и мальчиком Жаном распевали на улицах, в казармах и на ярмарках.
Нашей выручки хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. И мы все время дрожали от страха: нас троих разыскивала полиция, поэтому один из нас всегда должен был стоять на стреме, Зеферину и Жана — за воровство с прилавков, меня — потому что отец заявил о моем бегстве в комиссариат на Плас де Фет.
Петь мы уходили так далеко, что часто мне не удавалось вернуться вечером домой. Тогда Малыш Луи присматривал за маленькой.
Как-то раз мы решили заночевать в подворотне, где отвратительно пахло помоями. Зеферина, восемнадцатилетняя цыганка, чудовищно безобразная, болела свинкой. В ту ночь была моя очередь караулить. Но я так устала! Свернувшись калачиком, я крепко заснула. Вдруг нас осветил луч карманного фонаря и грубый голос приказал: «Вставайте и следуйте за нами!»
Это была полиция. Бригадир и два агента, на велосипедах, застали нас врасплох.
К счастью, бригадир начал строить глазки Зеферине. Нам надо было спасаться любой ценой. Мы с Жаном кидали нашей подружке умоляющие взгляды. Она любила Жана, а Жан любил ее. Жертва была слишком тяжелой, но это был наш последний шанс избежать тюрьмы. Зеферина удалилась с бригадиром в ночь. Уходя, он распорядился: «Отпустите остальных».
Понятно, при такой жизни, как моя, я не могла бы получить приз за добродетель.
Отчасти по вине моих приятелей Жана и Зеферины я потеряла свою первую любовь… и мою маленькую Марсель.
Жан любил Зеферину. Но как-то они поссорились, и она вернулась в свою семью, к цыганам, которые жили в фургоне около Пантена.
Жан попросил меня уговорить Зеферину вернуться к нему. Как только я появилась в фургоне, семья цыган накинулась на меня. Их было человек пятнадцать. Они били меня, ругали, плевали в лицо. Я истекала кровью и плакала от бешенства. Наконец мне удалось вырваться. Добежав до изгороди, которая ограждала их табор, я обернулась и закричала: «Я вам отомщу! Я приду с ребятами!».
Я вернулась к Жану. Сообщив, какую трепку получила, я сказала: «Жан, мы должны отомстить».
Мы пошли по улице Бельвиль. На каждом углу, в каждом кафе набирали себе подмогу. В результате, когда мы явились в Пантен к цыганскому табору, нас было двадцать головорезов обоего пола (то, что теперь бы назвали двадцать «черных блуз»).