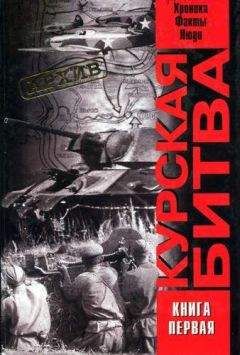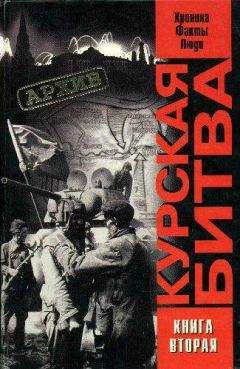Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
Пришлось думать и о работе. Домашняя, ответственная работа, например, шитье платьев, ей была совершенно не под силу, нужно было искать работу в какой-либо мастерской. К счастью, такая нашлась, где работала ее мать — мастерская кукол под названием «Фавор». Ее содержала очень милая семья наших знакомых (Фаусеков). Работа в этой мастерской в прекрасных условиях, рядом с мамочкой, конечно, Ирину устраивала. Кроме того, в конце мая удалось устроить молодоженов в нашем отеле, где они получили номер рядом с нашим. Но трещины в ее жизни не зарастали. Прежде всего, эта работа в мастерской окончательно отдаляла Ирину от института. Хотя там большинство лекций читалось по вечерам, ввиду занятости русской молодежи на работе, — однако и эти вечерние часы были для Ирины совершенно невозможны: после обычных часов в мастерской она приходила домой усталая, а ей еще нужно было готовить ужин и т. д. С Институтом Ирина была связана отнюдь не практическими соображениями, которые это учебное заведение едва ли и преследовало, но поступление в Институт являлось с ее стороны идейной пробой себя на каком-либо серьезном поприще, чтобы почувствовать себя, так сказать, крепким человеком. И теперь она горько чувствовала, что ее обещание не выполнимо. Мысль об Институте ее преследовала горьким кошмаром, она пыталась, было, подать прошение о разрешении держать экзамены «с тем курсом», и написала трогательное стихотворение о своей тоске по Институту.
В вечер синий и благословенный,
В городской звенящей тишине,
На мосту, над почерневшей Сеной —
Генрих вспоминает обо мне.
Зданья в мглу безлунную зарыты,
Свет скользит с шестого этажа,
Поднял конь железные копыта,
Тяжело и крупно задрожал.
А в кафе, под звонкий лязг бокалов,
В глубине, у крайнего стола,
Облик мой — веселый и усталый —
Сонно вспоминают зеркала…
А на скамьях милых и тяжелых,
Под сияньем свешенных огней,
В темном зданье коммунальной школы
В этот час не помнят обо мне.
И никто не видит, как смущенно,
В опустевшей, тихой темноте,
Там, на лестнице неосвещенной,
Притаилась плачущая тень…
6. VI.1928
Как всегда у Ирины это сознание несбывшихся надежд, мысль о «просроченных сроках» и «несдержанных обещаниях» нашло свое яркое отражение в ее стихах. Эта тема в ее словесном отражении становится даже одной из главных в ее творчестве — она так гармонирует с ее печальными думами. Месяца через три после свадьбы она написала стихотворение, в котором уже намечается и как бы заранее переживается крушение ее надежд и идеалов — оно, между прочим, произвело на мужа очень тяжелое впечатление.
Я накопила приметы
Много тревожных примет:
Будет холодное лето,
Матовый, облачный свет.
Будут задорные блески
В землю опущенных глаз,
Ветер запутает дерзко
Смысл недослышанных фраз.
Не повторенные встречи,
Не утаенная грусть,
Слабые, узкие плечи
Примут непрошенный груз.
В новой приниженной жизни,
В неумолимой борьбе
Будут рассказы о ближних,
И никогда о себе.
Длинные, цепкие руки
Сдавят до боли виски.
Мир потускнеет от скуки
И небывалой тоски.
Встанут забытые лица,
Кто и зачем — не пойму.
Дом, где так трудно забыться,
Станет похож на тюрьму.
Будут бессонные ночи —
Много тревожных ночей —
И неразборчивый почерк
При осторожной свече.
В полдень томленья и лени,
Как и в былые года,
Вдаль от парижских строений
Будут скользить поезда.
И на поляне в Медоне,
У белоствольных берез,
Сердце впервые застонет
От накопившихся слез.
Горечь — обиды — и цели —
Кто их сумеет нести?
И не услышанный лепет:
«Было. Не будет. Прости!»
3. IV.1928
А русская жизнь в Париже продолжалась своим чередом: происходили собрания поэтов, где Ирина часто выступала, обычно, с большим успехом, она бывала на собраниях «Дней», на которых были интересные доклады на политические темы, она посещала собрания «Зеленой-Лампы» — у Мережковских, и такие, как «День Русской Культуры» (эмигрантский ежегодный праздник). Все это ее интересовало и занимало. Но все это не могло заглушить ее темной тоски, и когда Ирина приходила домой, в свой «дом», эта «игра в Кнута Гамсуна» продолжалась. Юрий за книгой или за газетой. «За окном дождь. В комнате тикают часы, да скрипит на бумаге перо. Иногда шуршала газета. И — все. Так ползут вечера. А жить нечем, нечем, нечем. Переоценила я себя. Не сумела построить жизнь». Прочтя эту цитату, изображающую мирную картину, почти идиллию, читатель может быть в недоумении — отчего тоска? Ответа нет.
Развивая подобные настроения, Ирина, естественно, приходила к весьма трагическим заключениям. Вот ей кажется: «Наступает то время, когда мне надо как-то уйти от жизни, т. е. приближается та грань, за которую я никогда не заглядывала». Казалось ей, что с ее «исчезновением» все «вопросы», стоящие перед ней, вообще исчезнут, и смерть является в роли роковой неизбежности, логического конца ее болезни. Мысль o самоубийстве в стихах Ирины встречаются сравнительно редко и является скорее своеобразным литературным приемом. Так, например, появилось стихотворение, написанное на втором месяце беременности:
Час пробьет торжественно и звонко —
Час последней гибели. И я
Побреду последней собачонкой:
Вдоль чужого, темного жилья.
Буду думать, что не все — чужое,
Буду горько плакать, и в ответ
Я услышу трижды роковое,
Трижды унизительное «нет!»
Ни тоски, ни ада и ни рая —
Уж не будет больше ничего.
Кто-то пожалеет, приласкает
В мир подкинутое существо.
А потом — потом сожжет, закрутит
Медленный, губительный пожар.
И на шее обовьется туже
Ранним утром разноцветный шарф.
27. XI.1928
Очень редко, но все же, может, быть, под влиянием ее маленьких удач, у Ирины появлялось желание пересмотреть обычную пессимистическую оценку своей жизни. Так, в 1927 г., т. е. до замужества, она определенно говорила, что ей хочется