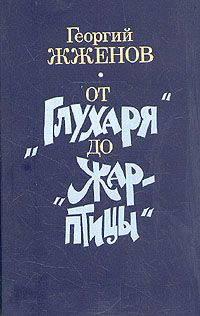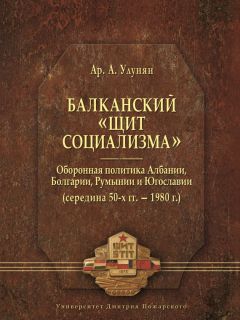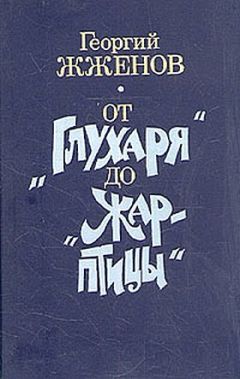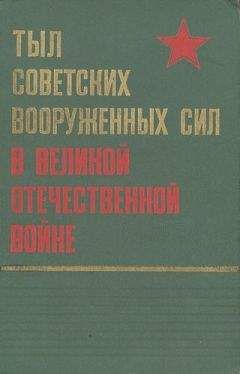Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)
Странно, вспоминая бабушку, я вижу, как от нее идет свет. Она светилась, как светился дядя Жоржик. А от тети Лели, которая всю жизнь служила другим, не имела своей жизни – света не вижу.
На мне кончается женская линия, тянущаяся от прабабушки Елены Андреевны Орловской. Елена Андреевна – первая. Ее дочери, Ольга и Мария – вторые (у Марии девочек не было). Ее внучки от Ольги Константиновны – Вера и Елена – третьи. Ее правнучки от Веры и Елены – Таточка и я. Таточка уже умерла. И у нее и у меня – сыновья.
Хочется рассказать и о моем дедушке, Вячеславе Григорьевиче Курдюмове, так и оставшемся для меня незнакомым. По воспоминаниям его старшего сына, Георгия Вячеславовича (Жоржика), дедушка был большой труженик. Во время жизни в Рыльске – с утра после окончания треб он шел в гимназию, где преподавал до обеда географию, историю и Закон Божий, после небольшого отдыха дома работал до вечера в саду. Дедушка был прекрасный садовод, и огромный ухоженный сад с редкими породами фруктовых деревьев часто потом снился его детям.
В 1932 году, помыкавшись по стране, он приехал в Днепропетровск к Жоржику и поселился в их единственной малюсенькой комнатке, в которой прожил несколько лет.
– Приехал, чтобы защитить своего «мягкого» Жоржичка, от меня, «жесткой», – так или похоже говорила тетя Тася. – И кровати, Ингочка, в узенькой комнатке стояли одна против другой – на одной мы с Жоржем, на другой Вячеслав Григорьевич.
Да, тут уж ничего не скажешь! Такое могли вынести лишь тетя Тася и дядя Жоржик.
Именно тогда и состоялась единственная моя встреча с дедом. В 1934 году он приехал к моим родителям в Севастополь. Мне было полгода. Взяв на руки, дед стал меня подбрасывать, я, в рубашечке до пояса, смеялась от удовольствия, улыбался и дед. И вдруг:
– Ах ты, паршивка! Вера, возьми ее.
Мама, смеясь, рассказывала:
– Ты, в рубашечке до пояса, от восторга нафуркала прямо деду в штаны.
Увы, больше никакой связи с дедушкой у меня не было. Знаю только, что в Севастополе мама отдала отцу папин подарок – отрез «чертовой кожи» на брюки. Отрез, который «ножом будешь резать – не порвешь». Вот и все. Сколько пробыл дедушка у нас, не знаю. Не думаю, что долго. Мама была занята мной и папой. А дед-то, может, и приехал помочь, но оказался лишним.
Сейчас, когда я рассматриваю фотографии дедушки в молодости, меня поражает не только его красота, свойственная жителям средней полосы, курским, орловским: тонкое лицо, прямой нос, – но и открытые, чистые, глубокие глаза.
Кажется, в 1935 году дядя Жоржик в Днепропетровске получил большую – четырехкомнатную – квартиру в новом «доме для специалистов». Из воспоминаний Горика, Игоря Константиновича Засимчука: «Многокомнатная квартира дяди Жоржика была густо заселена: кроме него, тети Таси (его жены) и Владика (их сына), в ней жил отец дяди Жоржика и родители тети Таси – Анна Александровна и Иван Петрович. По воскресным дням вся многолюдная семья собиралась за большим обеденным столом, за которым “властвовал” дедушка Вячеслав Григорьевич. Помню, в день моего рождения – мне исполнилось 5 лет (именно в это время Жоржик пригласил тетю Лелю с детьми к себе, мы с бабушкой поехали в Ленинград, мама осталась в Рыльске с Вовкой, папа сидел в «Крестах», а Константин Герасимович, отец Горика, уже, вероятно, был расстрелян) – он выбрал из десертной вазы самую большую и красивую грушу, протянул ее мне через стол и сказал: “На! Поздравляю!”»
Больше всех дедушка, конечно, любил Жоржика, гордился сыном (еще до войны Жоржик уже был академиком АН УССР). Из всех внуков дед больше всех любил Владика. Это он, можно сказать, спас внука, когда во время войны, после трепанации черепа (осложнение после скарлатины), Владика привезли домой и, положив в кроватку, оставили на какое-то время одного. Беспокойный мой дед вошел в комнату, где лежал шестилетний Владик, и увидел, что тот плавает в крови – открылось кровотечение. Достать машину вечером в Магнитогорске было нелегко, но все же достали. Владик помнит, как его везли на машине, голову держала его мама, каждая встряска вызывала жгучую боль.
И. К. Засимчук (Горик) вспоминает: «Личность деда, не понятая мной до конца, представляется мне немного противоречивой и даже трагичной. В период моего общения с ним не было никаких внешних признаков религиозности. Дети его выросли скорее атеистами, за исключением, может быть, Веры» (моей мамы – И.М.). Несомненно, он был человеком, аналитически мыслящим. Именно по настоянию моего деда его младший брат, Александр Григорьевич Курдюмов, не стал продолжать многовековую традицию Курдюмовых – быть священнослужителями. Дед воспротивился решительно: и Александр поступил в Харьковский университет на математический факультет, а заодно и в консерваторию. (Курдюмовы все были очень музыкальны – на пианино играли бабушка, мама, Жоржик, Володя, дед играл на флейте.) Александр Григорьевич Курдюмов во время Гражданской войны вступил в белую армию, и следы его затерялись.
Надо сказать, что всех внуков интересовало – был ли дед верующим? Я подолгу вглядывалась в фотографии деда, старалась понять – оставался ли он верующим после закрытия церкви. И вот совершенно случайно – хотя говорят, что «случайно» не бывает – нахожу, возможно, единственное письмо деда к маме в Болгарию, за полгода до его смерти:
Дорогая Верочка, не сердись на меня и не обижайся, что я почти никогда не пишу тебе. Но, признаться, мне это сейчас достаточно трудно – вижу плохо, руки, особенно пальцы, слушаются плохо, хочешь писать одну букву, а выходит другая. Правда, особенно часто я никогда не писал. Хотя мысли еще и не путаются и еще не забываюсь, но соображать уже стал плохо. Ведь мне уже 76-й год. Ноги тоже стали плохо служить. Я теперь почти никуда не выхожу, а сижу больше дома. Правда, меня это не очень тяготит, так как я почти всегда был домосед. На судьбу не ропщу. Благодаря Жоржику мы все без нужды. Очень жаль, что теперь вряд ли когда придется увидеться. Особенно жаль, что Володю я совсем не видел в натуре. Тогда так неудачно сложилось, что вы не могли заехать в Киев, как предполагали. Крепко, крепко всех целую: детям шлю мое благословение, пусть будут счастливы и здоровы. Здравке мой сердечный привет. Еще раз всех крепко целую и желаю быть здоровыми и счастливыми. Мама попутно обо всем напишет подробнее. Папа и дедушка.
Долго я сидела, пораженная этим неожиданным «приветом» с того света. Это письмо с благословением и еще одно его высказывание меня убеждает: да, оставался верующим, несмотря на свой едкий, резкий характер. Он не любил власти, не любил советский строй – это чувствовалось, но напрямую он об этом никогда не говорил. Примирение с властью произошло во время Великой Отечественной войны, когда Вячеслав Григорьевич очень переживал отступление наших войск и внимательно следил за событиями. Сталина он называл не иначе как «Мудрый», что, конечно, означало насмешку. И вот, когда во время войны были открыты церкви, дед произнес, указывая вверх пальцем: «Мудрому там за это многое простится». Так сказать мог только человек, который знал и верил, что существует это «там».