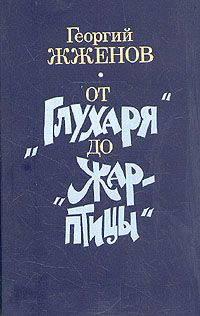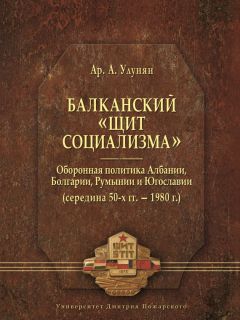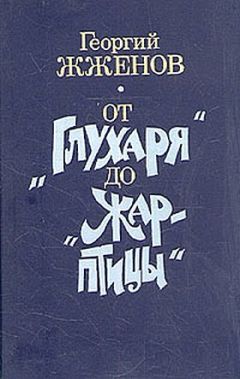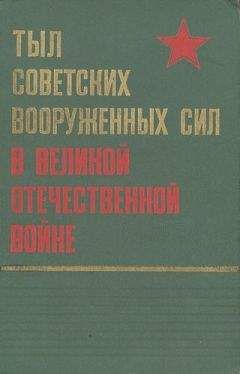Инга Мицова - История одной семьи (ХХ век. Болгария – Россия)
Долго я сидела, пораженная этим неожиданным «приветом» с того света. Это письмо с благословением и еще одно его высказывание меня убеждает: да, оставался верующим, несмотря на свой едкий, резкий характер. Он не любил власти, не любил советский строй – это чувствовалось, но напрямую он об этом никогда не говорил. Примирение с властью произошло во время Великой Отечественной войны, когда Вячеслав Григорьевич очень переживал отступление наших войск и внимательно следил за событиями. Сталина он называл не иначе как «Мудрый», что, конечно, означало насмешку. И вот, когда во время войны были открыты церкви, дед произнес, указывая вверх пальцем: «Мудрому там за это многое простится». Так сказать мог только человек, который знал и верил, что существует это «там».
Отрывок из записок Игоря Засимчука:
«Дед меня не слишком жаловал и, по-моему, весьма критически относился к моему жизненному потенциалу. Для меня это было несколько непривычным, поскольку в те годы и до окончания школы я был круглым отличником. Но дедушка смотрел не в табель, а в корень. И по-видимому, истинных достоинств в перспективе моего формирования не находил. У нас с ним бывали разговоры на историко-политические темы. Он был большим знатоком истории России, Древней Греции, Рима и человеком, аналитически мыслящим. Случалось, что я провоцировал деда на споры, в которых пытался доказать достоинства социализма, колхозного строя и прочих атрибутов советской действительности. Самое смешное, что, живя в провинции, общаясь не только с городскими, но и сельскими ребятами, я уже достаточно знал о бесправном и бедственном положении колхозников. Да и опыт моей семьи должен был бы меня чему-то научить. Но я оценивал это в соответствии с официальной демагогией: отдельные случаи имеют место… виноваты фашисты и империалисты… вот если бы не война… Послушав мои разглагольствования, дед как-то сказал: “Дурак, у тебя отца ни за что расстреляли, а ты как попугай…” Однажды он шутливо высказался в мой адрес примерно так: “Трепач, толку не будет, будет политработником”. По-видимому, дедушка ошибся только в конкретике. Я запомнил еще одно, более масштабное его пророчество о том, что Н. С. Хрущев, бывший тогда первым секретарем компартии Украины, станет преемником Сталина. Тогда мало кто мог предположить такое».
Масштабное пророчество подтвердилось, а вот в отношении внука дед ошибся: Игорь Засимчук, Горик, – доктор физико-математических наук.
Умер дедушка, как я уже писала, 14 сентября 1948 года. У дедушки был рак легкого.
Моя легкая бабушка за неделю до смерти дедушки, с которым она фактически рассталась еще в 1928 году и встретилась только в конце 1943-го, в Магнитогорске, замолчала.
Дядю Жоржика не беспокоили, они с тетей Тасей отдыхали в Сочи, как обычно, в сентябре. Но накануне смерти дедушки туда все же послали телеграмму. В последний день мой дед молча сидел, откинув голову на подушки дивана. На фотографии того времени видно исхудавшее лицо, огромные, прозрачные, бездонные измученные глаза, старческая тонкая шея, выглядывающая из отложного воротника. Самолет из Сочи должен был прилететь около шести. За два часа до прилета дяди Жоржика дедушка попросил тетю Лелю подняться на пятый этаж – там жила медицинская сестра. Сделали укол. Мука его последнего часа выражалась не в стонах, не в жалобах, не в беспамятстве – он поминутно взглядывал на часы. Он ждал Жоржа. Откинувшись на подушки дивана, он то и дело поворачивал голову налево, где наверху на стене висели часы, отворачивался и через минуту опять обращал взгляд вверх налево. Дед мой, на протяжении почти тридцати лет службы на каждой литургии просивший «смерть безболезненну, мирну, непостыдну… и доброго ответа на Страшном судище Христовом…», умирал в страшных муках, но «непостыдно». «Рак легкого – и ни единого стона», – рассказывала тетя Леля. Жоржика дед не дождался. Самолет опоздал на полчаса, может, больше.
Осталась фотография, запечатлевшая похороны. Гроб стоит на улице, напоминающей улицы Рыльска, – широкая улица, поросшая травой. Вдали стоит грузовик. Не у кого спросить, что за улица. Около дедушки столпились бабушка, Жоржик, Слава, тетя Леля, Таточка, Ирочка, тетя Тася… Фотография плохонькая, любительская, но и на ней видно, что бабушка, опустив голову, плачет, тетя Леля, моя сильная тетя Леля, не плачет, но вся ее поза говорит о страдании. Она кажется одинокой и вся поглощена прощанием. Дядя Жоржик – со слов тети Лели – окаменел. Он тоже не плачет. Видно, что плачет дядя Слава. Перед тем как опустить гроб в могилу, человек, руководивший похоронами, поднял руку, в руке сверкнула бритва, и он на глазах у всех провел бритвой по костюму дедушки.
– Иначе разроют могилу.
Дедушку отпевали во Владимирском соборе. Похоронили на центральном Байковском кладбище. Туда же, как я уже писала, через шесть лет положат бабушку, через 24 года их любимую внучку Таточку, а следом за Таточкой, через четырнадцать лет, и тетю Лелю. Все они, кроме бабушки, умерли в сентябре.
Дедушка – 14-го, Таточка – 21-го, тетя Леля – 27-го.
Второй раз мама приехала в Россию весной 1956 года, уже в Ленинград, ко мне. Увидев ее в окне вагона, я изумилась – за зиму мама превратилась в старушку. Зима для нее была трудная, она беспрерывно болела, и папа настоял, чтобы она съездила в Ленинград.
А в Ленинграде мама расцвела. Одетая в драповое коричневое пальто, сшитое хорошим портным, в красивой косынке, с заграничной сумкой… Нет, мама никогда не была элегантна. Но когда мы шли с ней той весной рядом, смотрели на нее, не на меня.
Мама была в Ленинграде впервые после войны и в последний раз в своей жизни. Оказавшись в Ленинграде, не обремененная семьей, не обремененная тревогами, счастливая самим городом, который страстно любила, мама вспомнила молодость и помолодела.
Навестила Любу Малеревскую. Ах, Люба!
– Вот если бы найти Бэбу Капилевич, – сказала мама по возвращении от Любы, и по тону ее, и по тому, как она вздохнула, вернувшись, я поняла, что встреча не удалась.
Возможно, Люба вместе с матерью, с которой жила, смотрели на маму теми же испуганными глазами, что и на меня, когда я по просьбе мамы как-то к ним зашла.
Ходила в дом на Зверинской, 36, где начиналась их совместная с папой жизнь, где жили Клюевы. Все они умерли в блокаду. Об этом поведала та же Ираида Гигорьевна Дубова, продолжавшая жить в том же доме на Зверинской.
Наше посещение Радайкиных с мамой помню очень смутно, но из того факта, что мы были там только один раз, я могу сделать вывод: нам там не очень были рады. Помню шепот: «Сын в плаванье на подводной лодке. Ушел на полгода. Плавает на Северном полюсе. Всю зиму подо льдом. Это секрет строжайший, не дай бог кому-либо сказать».