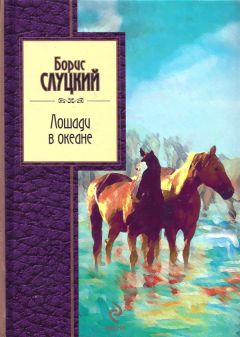Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
Трудно после стольких лет восстановить содержание разговоров. Но один пример сохранился в виде документа. Его прислала мне сестра Миши Кульчицкого. Она сохранила листочек, нечто вроде анкеты, где мы, несколько друзей-харьковчан, попытались ответить на вопрос, что такое поэзия. Затеял анкету Борис. В целом «анкетирование» хотя и отдает юношеским максимализмом, но позволяет представить уровень и направленность наших разговоров, да и характер участников затеи.
Меня заставили писать первым, и я очень кратко, в двух словах, выразил свое благоговение перед поэтами и недоступность для меня поэтического творчества: «Поэзия — дерзость». Настолько дерзким я себя не считал, в этом смысле я был скромнее.
Борис писал вторым. Он привел строчку из «Высокой болезни» Пастернака: «Мы были музыкой во льду…» — и добавил: «единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.). К сведению ниже пишущих».
Миша Кульчицкий: «Разностью между поэзией и прозой является то, что проза светит, но не греет, поэзия — греет, но не светит. Во всяком случае не светит. Шутка?»
Четвертым был наш школьный товарищ Зюня Биркинблит — наше «богемное крыло». Судьба его была интересна. В первые годы после войны он был оперуполномоченным Смерша дивизии. После демобилизации — директором школы-колонии. Его запись сделана была небрежно, не все удалось прочесть. «Может быть, я вру, но мне кажется, что я бы, с девушкой на кровати лежа и прелюбодействуя с ней, обменял бы ее самый… (неразборчиво)… кусочек стиха… (неразборчиво)… об этой же самой страсти»
Некоторую конкретность разговорам во время первых каникул придают сохранившиеся письма Зиновия Биркинблита (Зюни). В одном из них он вспоминает: «Как-то вечером мы встретились под “Яковлевскими” часами <место обычных свиданий харьковских влюбленных>. Человек пять, среди них Гриша (Левин) и Борис. Затеяли разговор о величии Сталина, а Борис и бахнул: “Если Сталин проявит себя, как Бонапарт, он заслуживает смертной казни”. За точность не ручаюсь, но что-то подобное Борис сказал». Так написано в письме, однако среди близких друзей Зюня слыл легкомысленным трепачом. Борис мог так думать и, наверно, именно так думал; но по части высказывания вслух подобных мыслей Слуцкий был чрезвычайно осторожен. Он не только сам не высказывался подобным образом, но демонстративно пресекал такие разговоры, если они возникали в его присутствии (П. Г.).
Впрочем, здесь встает непростой вопрос интерпретации оборванного, отрывочного высказывания. Что могло означать: «Проявить себя, как Бонапарт» — в устах «харьковского робеспьериста»? Культ Сталина в ту пору достиг таких высот, какие и не снились ни первому консулу, ни императору Франции, Наполеону Бонапарту. О чем тогда мог говорить Борис Слуцкий? О реставрации монархии, старого режима, каковая фактически происходила во Франции уже при Наполеоне? Об агрессивной внешней политике Бонапарта? В 1937 году в бонапартизме обвиняли главного врага Сталина, высланного им за рубеж и еще не убитого им Троцкого: он был заклеймен как авантюрист и вспышкопускатель, готовый к агрессии и экспорту революции. Насколько плох был «экспорт революции» для молодого Бориса Слуцкого, автора восторженных стихов о советско-польских войнах? Насколько плох был Бонапарт для молодого провинциала, приехавшего завоевывать столицу и писавшего оттуда своему другу о тех из студентов, кто ему нравился: «… провинциальные отличники, народ с гонором, с бонапартовскими замашками»?
Совершенно очевидно, что и себя самого Борис Слуцкий числил в «провинциальных отличниках», с «бонапартовскими замашками». Тогда почему же он мог сказать нечто такое, что запомнилось одному из собеседников, как: «Если Сталин проявит себя, как Бонапарт, он заслуживает смертной казни»? Вероятнее всего, потому, что он полагал: в истории русской революции каждому отведено свое место. Человеку, ответственному за страну, невместно рисковать. Это должны делать другие. Им полагаются «бонапартовские» замашки, но не ему.
В другом письме Зюня вспоминает, как сопровождал Бориса к месту снесенного памятника Василю Елану (Блакитному), известному украинскому поэту. Здесь же Борису читал стихи из своей ученической тетрадки молодой Галич. (Речь идет о поэте, чья фамилия случайно совпадала с псевдонимом известного барда.)
Но главное, о чем следует сказать в связи с первыми каникулами, — Борис и Миша часто встречались вне большой компании, и тогда-то Борис впервые настойчиво советовал Мише перебраться в Москву и поменять филфак на институт Союза писателей. Борис понимал, что провинциальный украинский Харьков — не место для будущего русского поэта. А кроме того, ему просто хотелось, чтобы Кульчицкий был ближе.
Быстро пролетели первые две недели. Борис уехал в Москву.
На оставшееся каникулярное время он пригласил в Москву меня. Борис подготовился к моему приезду. Почти на все вечера были заранее куплены билеты. Лучшее, что я видел на московских сценах, показал мне Борис в тот первый мой приезд в Москву. Днем мы бродили по Москве и как по расписанию ходили в любимый музей Бориса — Музей нового западного искусства на Кропоткинской. С постоянством, присущим ему изначально, он терпеливо перековывал мой провинциальный вкус. Жил я у Бориса в студенческом общежитии в Алексеевском студгородке. Он познакомил меня со своими юридическими однокурсниками (П. Г.).
В письмах к Мише Борис продолжал уговаривать его переехать учиться в Москву.
О Юридическом институте писал, что это «весьма замечательное во многих отношениях учреждение — начиная от швейцара, который знает лично многих академиков, и кончая профессорами, лучшими в стране юристами. Единственно, что меня разочаровало — это студенты. Это на 70 % люди, не попавшие в индустриальные институты.
Среди массы неудавшихся машиностроителей есть, правда, более интересные люди — 1) бывшие работники прокуратуры и НКВД и 2) провинциальные отличники — все народ с гонором, с бонапартовскими замашками».
«— Учиться нетрудно и интересно;
— …Московское солнце (немного дряблое, но все же самое теплое в мире) светит мне;
— Был несколько раз в ИФЛИ. Буду сдавать там в июне некоторые экзамены;
— Жить в Москве интересно. Даже по улицам ходить интересно;
— Из московских моих встреч самые интересные это с Бриками и Любкой Фейгельман, героиней смеляковского стихотворения, а также случайно мною услышанная горестная история о конце Вл. Вл. Маяковского. Из моих московских впечатлений — ленинский лоб в мавзолее и согбенная, исполненная какой-то торжественной безобразности фигура Б. Пастернака, которого я видел на одном вечере поэзии;