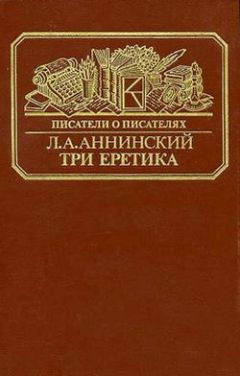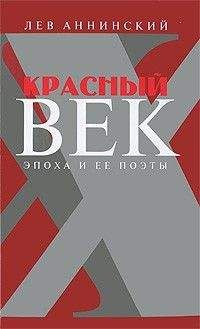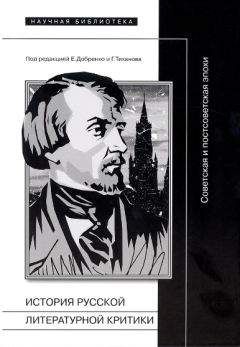Лев Аннинский - Три еретика
Все опутаны, все копошатся в грязи, все замараны с головы до ног, все задыхаются от смрада. И это — «жизнь»?! Но тогда не разумнее ли построже отнестись к этой «жизни», к самой ее основе! Если «авторитет» и «традиция» не оставляют человеку иных возможностей, кроме как опошлиться, отупеть и очерстветь, — так надо переступить через «авторитет» и «традицию»! Разорвать прежние связи, отрешиться от воздушных замков, сжечь за собой корабли! И идти вперед — смело, без оглядки и сожаления!
…Как сходятся крайности. Писарев, прогрессивный реалист, прямой и точный антипод «реакционного романтика» Григорьева, в сущности, мыслит по одной с ним логике: докатиться до края, до бездны, до тупика, — чтобы пришлось развернуться вспять! Писемский и тому, и другому нужен — чтобы довести рутину до абсурда, до презренной ясности.
Писарев так и формулирует: выкарабкаться из омута может только человек сильный, тот, кто сумеет отнестись к этой «жизни» с презрением, тот, кто положится на свое «я», на свой критический разум, на свой здравый смысл. Ибо в «почве» (зеркальное отрицание Григорьева! — Л.А.) здравого смысла нет и быть не может. Переделать эту «жизнь» невозможно.
Да невозможно ли? — выводит Писарев свою мысль на последний удар. — А если механизм развихлялся настолько, что вот–вот остановится? Если рутина «жизни» довела до того, что всем приходится барахтаться и захлебываться в грязи? Так не пора ли шевельнуть стоячую воду и спустить вниз по течению тину, накопившуюся в продолжении столетий?
Статья Писарева появляется в 1861 году в журнале «Русское слово».[2]
Член Главного управления по делам печати Феофил Толстой замечает пропустившему ее цензору, что сутью статьи, написанной по поводу повести «Тюфяк», являются «социалистические и коммунистические тенденции».
Вскоре Писарев взят под арест.
На событиях 1861 года, пожалуй, и заканчивается история непосредственного воздействия повести Писемского на литературную ситуацию. Десятилетие прямого резонанса — очень много.
Потом «Тюфяк» исчезает и из живой критической «драки», и с издательской авансцены. Разумеется, он включается во все полные и неполные собрания Писемского (если все сложить, наберется таких изданий с десяток; стало быть, каждые лет двенадцать где–нибудь да печатается). Однако нет отдельных изданий. Нет и титульных, то есть таких, когда название повести вынесено на обложку книги, — что свидетельствует об интересе именно к этой вещи. До 1862 года отдельные выходят одно за другим: и Стелловский издает в числе прочего, и Степанова (в сборнике повестей и рассказов), и университетскую брошюровку причтем сюда, — но то сказывается еще непосредственный резонанс, на него издатели и реагируют. А далее — вакуум. За все последующее время, по сей день — единственное издание 1979 года, московское, в «Советской России», одно за сто тридцать пять лет! Поневоле задумаешься.
Нет сомнений в том, что повесть удерживается сегодня в классическом наследии. Но удерживается ли она в круге живого чтения? — вот о чем думаешь, когда берешь текст в руки.
Да, кое–что уже не срабатывает. Типология. Вялый Бешметев кажется наброском, по которому позднее написаны фигуры куда более яркие: Рудин, Лаврецкий… Обломов. Они его затерли в нашей литературной памяти. Точно так же сочные купчихи Островского не дают посвежу воспринять несравненную Перепетую Петровну с несравненной же Феоктистой. Точно так же Юлия и вообще все эти комнатные романы, старательно выписанные в «Тюфяке», воспринимаются теперь как вариации на тургеневские темы. А вихляющийся туда–сюда Бахтиаров — как рыхлый вариант Печорина. А вихляющийся туда–сюда Масуров — как рыхлый вариант Ноздрева.
Но брезжит и смутная догадка: а если эта фактурная рыхлость, как бы «недоведенность» до полной четкости, — есть не «недобор» того или иного качества, а само качество, собственно, и составляющее здесь суть художества?
Ткань — внешне — тоже вроде бы «не доведена»: много пустот, «проскачек», едва проштрихованных мест. Иной раз словно на ощупь написано. Словно не вполне ясно, зачем рассказано. Словно все эти люди: плохие ли, хорошие ли, — равно вызывают некую трудноуловимую усмешку. И не мотивирует автор их сумасбродств, словно бы полагая, что их и не мотивируешь. Хотя отбор подробностей, взятых как бы на ощупь, — неотступно наталкивает вас на одну и ту же мысль. На эту вот самую: на «немыслимость мотивировок».
Мотивировок нет — есть лейтмотивы.
Доброму терпеливцу противостоит неунывающий фанфарон. Он тоже, в сущности, добрый. Злых нет, все добрые, хотя и жрут друг друга. Как сказал бы Григорьев, «наши добрые звери». Пожалуй, Писемский все–таки склоняется на сторону доброго тюфяка. Он за него обижен. В нем что–то дорого Писемскому, что–то погребено. В нем погребен — идеалист. Поэтому вокруг него и стоит облако полувысказанной авторской обиды. Оскорбленность за чистоту. И еще — лейтмотивом же — чувство фатальной обреченности этой чистоты. И смирение перед обреченностью.
Не этот ли мотив попираемого идеализма подсознательно подкупает Писарева? Не этот ли глубоко спрятанный под «грязью и серостью», едва ощутимый, беззащитный, чистейший идеализм, «хрустальный», как сказали бы мы в применении к Писареву, — побуждает столь яростного критика поставить Писемского над всею русской прозой, — что, конечно, в ту пору есть верх субъективности и по сей день остается некоторой психологической загадкой. Автор «Тюфяка» — слабость Писарева — не потому ли, что Писарев и сам, по натуре, — катастрофически обреченный идеалист? Он один по–настоящему и чует это в Писемском: внутренний катастрофизм «стоячего» мира. Когда любое движение гаснет — не от злого противодействия, а так, от чепухи и необязательности, от всеобщего естественного погуливания–пошатывания, от «всякой всячины». Что с этим делать? Идти на компромиссы Писарев не умеет, он умеет только одно: разрубать узлы.
Но это же — рубить по живому!
Что и чувствует Григорьев. От живой боли корчится. Прекрасно понимая всю дичь, всю звериную допотопность «естественных» форм этой жизни, — жалеет в ней живое.
Так, может, бесконечная живая рыхлость этой почвы, и тот факт, что она, покорно поддаваясь тем и этим распашкам, все–таки сохраняет слепой остаток неубитой жизненности, — может быть, сам факт этой уходящей из–под гибели живой рыхлости и есть то, ради чего вызван к жизни судьбой этот художественный мир?