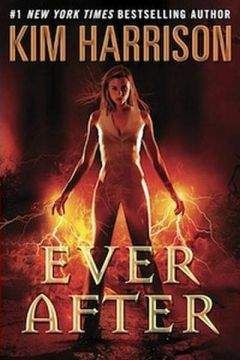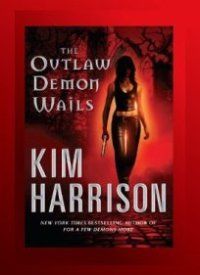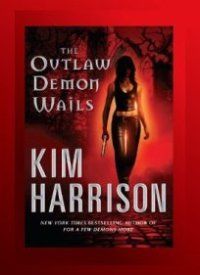Наталия Ильина - Иными глазами Очерки шанхайской жизни
— Что вы! — перебила Марья Петровна, добродушно улыбаясь, — а представьте себе, во время той войны мы с мужем очень хорошо жили, мы за границей всю войну провели, и он много зарабатывал. Муж не воевал, у нас связи были. А теперь он уж покойник, мужчины в доме нет, некому мозгами пораскинуть, подумать, как обстоятельствами воспользоваться, а прибыли никакой. От этой войны только неудобства и терпишь… Что с вами? Почему у вас такое странное лицо? Может быть, в кофе что-нибудь попало? Здесь вообще кофе отвратительное!
— Нет, — сказала я, — ничего. Я просто поперхнулась.
Марья Петровна успокоилась и продолжала:
— У меня знакомая есть, так у нее муж очень хорошо зарабатывает. По пятьдесят тысяч в день только на еду тратят! Так они не хотят, чтобы война кончалась. Недавно вот какой-то предсказатель сказал, что война через два месяца кончится. Так знакомая даже расстроилась. У них с мужем все рассчитано: если вот еще, предположим, год война, так они столько-то заработают. А тут через два месяца! Я, конечно, их понимаю, мне лично от этой войны никакой прибыли…
— Я, знаете, откровенно скажу, сначала не хотела, чтобы советские выигрывали. У нас с мамочкой до революции в Саратове домик был. В двух комнатах сами жили, две сдавали. Бросить пришлось. До сих пор сердце кипит. И уж потом мы с мужем хорошо жили, дом полная чаша, а как вспомню — садик наш, и в нем скамейку зелененькую, да еще бризбизы на окнах, — кипит сердце! НАШЕ было, и пропало! ’Гак я сначала думала: пускай, думаю, их теперь побьют хорошенько за домик за наш. А теперь, наоборот, хочу, чтобы выиграли. Потому что из-за англичан. Они ведь союзники. А У Валички жеиих — англичанин. Он, правда, еще не жених, но вроде. Я ведь запретила венчаться. Я ей говорю: — дура, еще сначала надо знать, кто войну выиграет. А он, может, все свои деньги потеряет? Вот, говорю, если они войну выиграют, да служба у него будет прежняя, тогда другое дело. А у приятельницы моей, между прочим, у дочери жених — немец. Так она за немцев горой! Мы с ней иногда ссоримся насчет политики…
Почему-то стало невероятно душно, пахло кофе, начинала болеть голова. И настойчиво, упорно, под лепет Марьи Петровны, что-то вспоминалось, что-то как будто нужное… Какие-то слова. Строчки какого-то стихотворенья.
— … Ссоримся, — говорила Марья Петровна, — насчет политики…
И, засмеявшись, издала звук, сильно напоминавший хрюканье.
Вот оно:
«Да, я свинья и песнь моя в хлеву победна и сильна!
Всегда одна, звучна, ясна и откровенности полна: я гордо, смело говорю: хрю-хрю…
Луны и солнца свет, цветов благоуханье, пусть воспевает вам какой-нибудь поэт, худое, жалкое, голодное созданье. А я свинья, хрю-хрю, до них мне дела нет…»
Марья Петровна продолжала:
— Хрю-хрю, — говорила она, — самое лучшее для женщины не иметь никакого образования. Дурам легче жить. Вот я, слава Богу, никакого образования не имела, а всю жизнь с комфортом прожила. Муж на руках носил. Только и забот бывало, что фасон нового платья выбрать…
А у меня в голове опять пели строчки:
«Что родина? По мне корыто, где пойло вкусное, где щедро через край для поросят моих и для меня налито, вот родина моя, вот светлый край!»
— Хрю-хрю, — продолжала тем временем Марья Петровна, — я Валичке говорю — самое лучшее найти какого-нибудь нейтрального. Вот Лиля Пустомелева подцепила себе датчанина. Ни кожи, ни рожи у этой Лили, ноги кривые. А вот подцепила! Пять миллионов в месяц зарабатывает. Это вам не русский. Принесет домой триста-четыреста тысяч, и что хочешь, то и делай…
«Пускай колбасники торгуют колбасой, из братьев и сестер готовят ветчину. Мне что? Ведь я жива! Я жру свои помои. И слыша рев и визг, и глазом не моргну…»
— Вы улыбаетесь, — хрюкала Марья Петровна, — вы знаете Лилю, да?
— Нет, не знаю. Прощайте, мне уходить пора.
— Погодите, куда вы! Дождь еще не перестал. Вот какая упрямая! Барышня, счет! А я еще посижу немного.
«Да, я свинья и не стыжусь. Да, я свинья и тем горжусь. И гордо, смело говорю, хрю-хрю».
Уже в дверях я слышала:
— Барышня, почему вы поставили три пирожных? Я твердо помню, что съела только два!
На улице еще был сильный дождь, но мне нравилось, что он хлестал мне в лицо.
И хотелось долго идти навстречу дождю и ветру…
«ПОДХАЛИМАЖ»
Николай Степанович сидел в кафе за маленьким столиком и помешивал ложкой в бурой жидкости, выдаваемой за кофе.
В центре за круглым столом восседал толстый человек, известный богач, на чем-то сделавший громадные деньги, владелец крупного предприятия. Вокруг него сидели три каких-то личности неопределенного вида. Одна из личностей говорила:
— Вы еще не видели новой квартиры Петра Ивановича? Ну, много потеряли! А в гостиной один ковер чего стоит. Громадный вкус, громадный…
— Хе-хе, — сыто усмехался Петр Иваныч и вдруг чихнул.
— Петр Иваныч, да вы простужены, — хором завопили три личности, — вам, Петр Иваныч, поберечься нужно.
— Теперь такая переменчивая погода…
— Днем жара… ночью холодный ветер…
— Вам бы не выходить… У вас, может быть, жар…
— Петр Иваныч вроде меня, хе-хе… У меня вот тоже жар, мне жена говорит: ты бы дома посидел. А я нет. Я все равно на работу бегу.
Это дерзкое и панибратское сравнение Петра Ивановича с самим собой двум остальным личностям не понравилось. Но Петр Иваныч улыбался добродушно. И личности возобновили разговор.
«Вот, — думал Николай Степанович, — мало меняются люди. Они, конечно, уже не говорят гоголевским слогом, запинаясь от почтения, вроде “ва-ва-ваше превосходительство”, или: “блестящее образование, которое, так сказать, чувствуется в каждом вашем движении»… Да, слогом этим уже не говорят, но дух остался бессмертный, гоголевский…»
Одна из личностей, видимо, конторский служащий Петра Иваныча, говорила:
— Не хвалясь могу сказать: дело свое люблю. Да с таким начальством и работать приятно! Иногда приходится на счетах щелкать до позднего вечера. Мне и сам Петр Иваныч сколько раз говорил: бросьте, завтра досчитаеге. А я домой не уйду, пока не сделаю. Такой уж характер странный.
Так, много лет назад, в маленьком русском городке городничий говорил Хлестакову:
— Верите ли, даже когда ложишься спать, думаешь: «Господи Боже мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно. Наградит оно или нет, конечно, в его воле, но по крайней мере я буду спокоен в сердце».
Личность рассказывала о своем прилежании, глаза Петра Иваныча ничего не выражали, но зато две остальных личности глядели мрачно и, верно, думали так же, как Артемий Петрович Земляника: