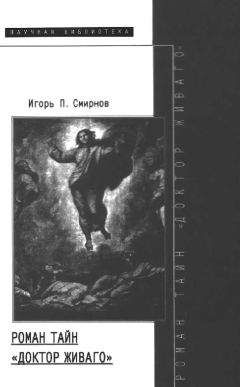«Доктор Живаго» как исторический роман - Поливанов Константин Михайлович
А. В. Лавров отмечает фундаментальное композиционное отличие от «Войны и мира», напрямую связанное с принципами изображения соединения истории и человеческой жизни. У Толстого чрезвычайно значимые в идеологическом и художественном плане персонажи, такие как капитан Тушин или Платон Каратаев, существуют в рамках эпизода или серии эпизодов, «сцены с ними можно было бы изъять из романа без всякого ущерба для прагматического развертывания основных сюжетных линий, прослеживающих историю семей Ростовых, Болконских и Безуховых» [Лавров 1993: 246]. Для Пастернака, напротив, «важнейшая и первейшая задача — выявление многоразличной связанности самых разнообразных персонажей» [Там же]. Повторим, что эта особенность демонстрирует представление Пастернака об исторических сдвигах, оказывающихся силой, смещающей не только конкретные человеческие судьбы, но и всю систему общественных и личных связей.
Знаменательные сходства двух романов на мотивном уровне выделяет И. А. Суханова. В работе сопоставляются «партизанские» главы «Доктора Живаго» и XI и XII части четвертого тома «Войны и мира». Отметив, что между Памфилом Палых и Тихоном Щербатым не обнаруживается сходства ни во внешности, ни в манерах, автор выделяет сходство функциональное — «самый полезный человек в партии» (у Толстого) и «был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков» (у Пастернака), а также виртуозное владение топором. Тихон «одинаково верно, со всего размаха, раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал ложки», а Памфил «с ловкостью, удивлявшей доктора, резал им <детям> уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов» [Суханова: 194–196].
Толстой подчеркивает бессознательность действий крестьян, нападающих на французов:
Тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как собаки загрызают забеглую бешенную собаку [Толстой: VII, 128–129]; ср. [Суханова: 197].
С концовкой этого фрагмента корреспондирует исчезновение Памфила из лагеря после убийства семьи, «как бежит от самого себя больное водобоязнью бешенное животное», а бессознательности толстовских партизан у Пастернака соответствует, напротив, характеристика Памфила фельдшером Лайошем — «очень сознательный с прирожденным классовым инстинктом» [Там же]. Исследовательница отмечает, что его сознательность близка мотивировке партизанской войны у Толстого: «Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством…»; практически также объясняется природа действий Памфила:
В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство — образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава [Пастернак: IV, 347–348].
Памфил Палых [38] — это своего рода «Тихон Щербатый ХX века». То, что у Толстого было «частностью» (пусть зловещей, но не роковой, а потому несколько «смягченной» писателем — ср. [Суханова: 199]), открывается Пастернаку как «норма» радикально изменившегося общественного бытия. Нам представляется, что, усиливая страшные черты «народного» персонажа, Пастернак говорит о неизбежности результатов войны и человеконенавистнической агитации — убийство перестает восприниматься как эксцесс, становится обыденностью. Вся линия Памфила Палых (от расправы с комиссаром Гинцем до убийства собственных детей) подчинена решению одной задачи — выявлению глубинной сущности войны, провоцирующей отказ от традиционных (христианских) этических норм, высвобождающей в человеке звериное начало, и в то же время буквальное безумие героя порождается и условиями именно гражданской, братоубийственной войны, которая у Пастернака не представлена, на наш взгляд, как толстовская историческая неизбежность. Перенося толстовского персонажа в новые условия, Пастернак косвенно напоминает о принципиальных суждениях Толстого о войне и иных (любых) формах насилия, обычно связываемых с поздним толстовским учением, но вполне отчетливо звучащих уже в «Севастопольских рассказах» и в «Войне и мире», например в зачине третьего тома:
…началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления [Толстой: VI, 5].
«Доктор Живаго» в диалоге с романами современников Пастернака
Сознательная ориентация Пастернака как автора исторического романа на «Капитанскую дочку» и «Войну и мир», его органическая включенность в большую литературную традицию и верность важнейшим этическим (и, соответственно, — историческим) принципам Пушкина и Толстого стала одной из причин сложного диалога автора «Доктора Живаго» с современниками, по-своему пытавшимися освоить «уроки классиков», в конечном счете применить их художественные и философские решения к новым идеологическим задачам.
В работе «„Доктор Живаго“ и литература сталинизма» И. П. Смирнов показывает, как Пастернак, играя подтекстами, ведет полемику с рядом писателей-современников (А. В. Луначарский, Б. А. Пильняк, Ю. К. Олеша, К. А. Федин, А. Е. Корнейчук и др.). Так, согласно Смирнову, эпизоды измывательства Петра Худолеева над Юсупкой Галиуллиным восходят, с одной стороны, к роману Л. М. Леонова «Дорога на океан», где отрицательный персонаж «двурушник» и бывший белый офицер Глеб Шулятиков поднимает руку на татарина-комсомольца Тайфуллу, загубившего паровоз [Смирнов 1999: 323–324], а с другой стороны — к «Капитанской дочке» (см. выше). Смирнов склонен видеть здесь сознательную ироническую игру; исследователь цитирует воспоминания А. К. Гладкова о его разговоре с Пастернаком, в котором поэт отмечал особое пристрастие Леонова к «Капитанской дочке» [Гладков: 142; Смирнов 1999: 324].
По мнению Смирнова, пастернаковская «редакция» описанного Леоновым конфликта полемична по отношению к «конституирующей советскую литературу оппозиции» — персонажи, выведенные Леоновым классовыми врагами, «рокируются»: в «Докторе Живаго» мальчик-татарин становится сначала офицером (словно бы обреченным мстить попавшему под его начало былому обидчику), а потом — белым генералом [Смирнов 1999: 325]. Приведя еще несколько примеров резко полемических «отражений» леоновского романа в пастернаковском, Смирнов приходит к выводу, что Пастернак в 1950-х годах (как и ранее) сознательно противопоставляет элементы сюжетной и мотивной структуры «Доктора Живаго» «Дороге на океан». Роман Леонова, по Смирнову, представлял
радикальный проект 30-х гг., предлагавший кремлевским вождям опереться на интеллигенцию при развязывании борьбы с «внутренним врагом», успешный исход которой был представлен Леоновым залогом грядущего мирового господства советской идеологии [Там же].
Гражданская война в «Дороге на океан» представлена прологом к «финальному торжеству коммунизма на всем Земном шаре» [Там же], что естественно радикально противоречило представлениям Пастернака.
Смирнов полагает, что сходным образом Пастернак строит полемику и с К. А. Фединым, чей роман «Братья», был в сравнении с леоновским «политически гораздо более умеренным» [Там же: 327], хотя и отдающим изрядную дань сталинизму. В «Братьях» совершается «уступка Сталину русской революции» [Там же], которая для Пастернака и в 1950-е годы сохраняла особую внутреннюю ценность [Пастернак Е. 2009: 47–65]. У Федина Пастернак заимствует имя Евграф — так в «Братьях» зовется персонаж, несколько раз выполняющий роль «спасителя».