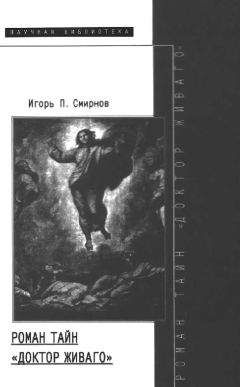«Доктор Живаго» как исторический роман - Поливанов Константин Михайлович
Не оспаривая общих суждений Смирнова, заметим, что роман Федина, частого собеседника и соседа Пастернака по подмосковному писательскому поселку Переделкино [39], мог быть воспринят будущим автором «Доктора Живаго» не только как конъюнктурный опыт описания революционных лет [40]. Один из братьев — композитор Никита Карев, как кажется, представляет собой не вполне чуждую размышлениям автора «Доктора Живаго» фигуру художника, уклоняющегося от участия в политических событиях. В финале романа Никита пишет симфонию, которая потрясает всех «советских слушателей» [Смирнов 1999: 327]. Никита Карев оказывается «победителем» в любовном треугольнике — к нему уходит жена матроса-революционера, героя Гражданской войны. Разумеется, «победа» Юрия Живаго — совсем иная, но весьма вероятно, что история фединского героя послужила основой для развертывания одной из центральных тем «Доктора Живаго» — судьбы художника в революционную эпоху. Пастернак по-своему договаривает то, что было намечено (в какой-то мере — затуманено сюжетными недоговоренностями) в романе Федина: художник (поэт, композитор) может или даже должен устраняться от деятельного участия в происходящих событиях ради искусства, которое само в конечном счете становится неотъемлемой частью истории.
Вывод работы Смирнова о том, что «интертекстуальность обладает политическим измерением» и что, «будучи <…> писательским трудом, направленным не только к будущему, но и в прошедшее <…> по необходимости отменяет политику, которая обнаруживается в источниках» [Там же: 328], применим не только к отношениям «Доктора Живаго» и романов Леонова или Федина, но и к несколько иначе устроенному диалогу с романом А. А. Фадеева «Разгром».
Во второй половине 1940-х — начале 1950-х годов, когда шла работа над «Доктором Живаго», «Разгром» (1927) давно и прочно занял одну из главных позиций в советской литературной иерархии (сопоставимую, пожалуй, лишь с повестью М. Горького «Мать» и романами Н. А. Островского «Как закалялась сталь» и М. А. Шолохова «Тихий Дон»). Автор «Разгрома» (с 1946 года — генеральный секретарь и председатель правления Союза советских писателей, последовательно проводивший сталинскую литературную политику) никогда не входил в круг друзей или приятелей Пастернака, в их отношениях «личная» составляющая если и присутствовала, то глубоко скрыто. В «Разгроме» нет интеллектуальных претензий и акцентированной «сложности» романов Леонова и Федина 1930-х годов. В отличие от многих «советских классиков», молодой Фадеев миновал искушение модернизмом (поиски оригинальной формы), а его «освоение» классического наследия (в широком диапазоне от Гоголя до Горького) не предполагало возрождения великой романной традиции (постановка метафизических вопросов, «проблематизация» героя, масштабность повествования), но сводилось к воспроизведению некоторых стилевых приемов (по преимуществу — толстовских) и — возможно, бессознательно — сюжетных моделей (так, любовный треугольник «Мечик — Варя — Морозка», скорее всего, заимствован из «Казаков»: «Оленин — Марьянка — Лукашка»).
Посвятив роман заведомо «частному» эпизоду из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке — разгрому одного из «красных» партизанских отрядов, Фадеев создал едва ли не идеальную модель советского революционного повествования. Выверенная система персонажей (умудренный, слабый телом, но могучий духом, прозревающий сквозь сегодняшние беды светлое будущее партийный вождь Левинсон; его несхожие ближайшие помощники — большевик-врач Сташинский и юный Бакланов; партизаны из сознательного пролетариата, шахтеры; партизаны-крестьяне, преодолевающие свою «стихийность», — от шебутного в начале романа Морозки до его идеального двойника Метелицы; ненадежный союзник-интеллигент, эсер-максималист Мечик, совершающий закономерное предательство), динамичный сюжет, колоритные «интимные» эпизоды и правильно написанные (не чрезмерные) дальневосточные таежные пейзажи, установка на фактографическую достоверность (Фадеев опирался на собственный партизанский опыт) обеспечили роману общественное признание не в меньшей мере, чем ударные — опровергающие лицемерную мораль прошлого — символические эпизоды (убийство раненого бойца; экспроприация для нужд отряда единственной свиньи у крестьянина-корейца, обрекающая его семью на голодную смерть) и стоящая за ними идея «нового гуманизма».
Трудно, казалось бы, найти текст, столь чуждый Пастернаку буквально по всем параметрам. Между тем один из ключевых эпизодов «Доктора Живаго» [41] явно написан по канве одной из сцен фадеевского романа. Во время боя с японцами, наступающими на партизан, один из партизан, старичок Пика
…лежал ниже, уткнувшись лицом в землю, и, как-то нелепо, над головой, перебирая затвором, стрелял в дерево перед собой. Он продолжал это занятие и после того, как Кубрак окликнул его, с той лишь разницей, что обойма уже кончилась и затвор щелкал впустую [Фадеев: 95].
Когда Юрию Живаго «против воли пришлось нарушить <…> правило», запрещающее военным врачам участвовать в боевых действиях, он ведет себя точно так же, как старичок из романа Фадеева — стараясь не задеть кого-либо из наступающих, Живаго стреляет в дерево:
жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы.
Целясь и по мере все уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.
Но о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом, и пересекали прицельную линию, в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил… [Пастернак: IV, 332–333]; ср. [Поливанов 2006: 227].
Пика у Фадеева не врач, однако большую часть времени проводит при госпитале. Он так же, как Живаго, сбегает из отряда, причем оказывается, что пропавший старичок никому не был нужен. «Ладно, не ищите», — говорит о нем командир; «никто не пожалел о Пике» [Фадеев: 107]. С грустью несколько раз вспоминает о нем только самый «ничтожный» герой романа — Мечик. Персонаж этот наделен чертой, которая автором представлена однозначно отрицательной, — невозможностью примириться с происходящими вокруг смертями, например с отравлением «своими» безнадежного раненого Фролова, заботы о котором отяготили бы отступление партизан. Пастернак соединяет в своем главном герое черты двух «отрицательных» (и взаимосоотнесенных) персонажей Фадеева — Пики и Мечика.
Эпизод со стрельбой в дерево («нейтральность» доктора сопряжена в данном случае с сочувствием к «белым», ибо в ходе боя гибнут наступающие мальчики) был использован редакционной коллегией журнала «Новый мир» для обвинения в адрес Пастернака и его романа. Именно этот эпизод был для советских литераторов важнейшим доказательством идеологической враждебности романа, несокрушимым аргументом против публикации «Доктора Живаго» в советском журнале [Поливанов 2014: 510–519]. Эпизод боя был оценен рецензентами как «апология предательства» [Там же: 516].
Однако в представлении Пастернака этот эпизод нагружен совершенно иным значением. Гражданская война фактически никому не оставляет шансов остаться вне враждующих лагерей — даже доктор оказывается вынужден взять в руки оружие, а выпущенная им пуля против его желания попадает в человека. Но тут-то, вопреки непреложным всеобщим законам, «срабатывает» чудо: молодой «колчаковец», которого, казалось, настиг выстрел доктора, оказывается лишь контуженным, пуля отскочила от висевшего на его груди «футлярчика» с 90-м псалмом. Только чудо может спасти Юрия Андреевича (и всякого человека, вверженного в бойню) от участи убийцы [Там же: 517]. Принципиальная важность «чудесного» эпизода неотделима от его интертекстуальной природы. Схематизированная концепция Гражданской войны, резко и по-своему ярко представленная в романе Фадеева, для Пастернака категорически неприемлема, но опровергает он фадеевскую доктрину на фадеевском же «материале». Не исключено, однако, что в комически (издевательски) поданной истории об испуганном (боящемся крови) тихом старичке Пастернак почувствовал подлинно человеческий смысл, обнаруживающийся против воли автора, идеологически сверхправильного, но одаренного и смутно помнящего о «вечных ценностях». Эта строго недоказуемая гипотеза косвенно поддерживается тем глубоким сочувствием к Фадееву, которое после его самоубийства (и мстительного шельмования властями в официальном некрологе) было выражено Пастернаком в стихотворении «Культ личности забрызган грязью…» (1956), завершающемся строками: «И культ злоречья и мещанства / Еще по-прежнему в чести, / Так что стреляются от пьянства, / Не в силах этого снести» [Пастернак: II, 280]. В написанном вскоре очерке «Люди и положения» (1956, 1957) Фадеев оказывается в соседстве с безусловно сердечно дорогими Пастернаку художниками, по своей воле ушедшими из жизни, — Маяковским, Есениным, Мариной Цветаевой, Паоло Яшвили: «И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: „Ну вот, все кончено. Прощай, Саша“. Но все они <выделено нами. — К. П.> мучились неописуемо <…> И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием» [Там же: III, 332]. Обращение Пастернака в пору работы над «Доктором Живаго» к давнему роману Фадеева могло быть стимулировано появлением его нового романа (написанного быстро — после долгих лет администрирования и творческих неудач) — «Молодой гвардии». При всей своей несомненной ангажированности «Молодая гвардия» в первой редакции (1945) была не только «советским бестселлером», но и романом о «мальчиках и девочках», что сложно корреспондировало с соответствующими раздумьями Пастернака как о своем поколении, так и о поколении «детей революции», на долю которых выпала новая война. Ср. весьма значимую для «Эпилога» (и романа в целом) линию «подруги» Тани Безочередевой (дочери Живаго и Лары) и возлюбленной Дудорова Христины Орлецовой, история и личность которой, безусловно, строятся на основе мифа о Зое Космодемьянской. Вспомним также запись слов Пастернака у А. К. Гладкова: «Я бы много дал за то, чтобы быть автором „Разгрома“ <…> Большая литература существует только в сотрудничестве с большим читателем» [Гладков: 63]. Ср. [Cockrell].