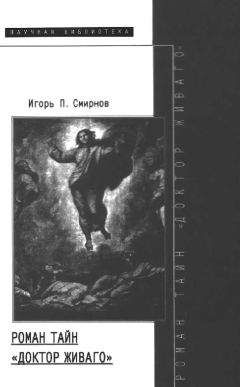«Доктор Живаго» как исторический роман - Поливанов Константин Михайлович
Оговоримся: в сложной романной структуре функции основных (сюжетообразующих) действующих лиц сказки распределяются между разными персонажами: Евграф оказывается далеко не единственным «помощником» Живаго, а определенное сходство с Пугачевым присуще отнюдь не только ему. Например, изматывающие Живаго «идеологические» дискуссии с Ливерием Микулицыным преломленно отражают короткие, но судьбоносные и символически нагруженные диалоги Гринева с Пугачевым. Если в «Капитанской дочке» трансформируются (но остаются распознаваемыми) структура и обусловленные ею мотивы волшебной сказки [Смирнов 1973], то в «Докторе Живаго» сказочная составляющая осложнена посредничеством пушкинского текста (и в известной мере — романов Вальтера Скотта).
В-третьих, кажущийся случайным эпизод — занятия Галиуллина с пожилыми ополченцами — явно восходит к сценам учения инвалидов в Белогорской крепости [Смирнов 1996: 324]. Даже такая частность пастернаковского романа нагружена пушкинской семантикой: известная читателям «Доктора Живаго» трагическая участь отнюдь не готовых к воинским действиям «мирных» защитников крепости проецируется не только на подопечных Галиуллина, но на всех обычных людей, поневоле втянутых в Гражданскую войну.
Соположение этих пушкинских аллюзий Пастернака ясно свидетельствует о принципиальной значимости для «Доктора Живаго» главной этической коллизии «Капитанской дочки» — возможности (и сложности) сохранения человечности в пору братоубийственной розни, равного ожесточения (расчеловечивания) двух противоборствующих «социальных» групп [Лотман 1995: 214–227].
В недавней работе [Иванов Вяч. Вс.] было справедливо указано, что обсуждавшийся выше эпизод с пленным, «человеческим обрубком» [Пастернак: IV, 366], заброшенным в лагерь после пыток у белых, напоминает допрос пленного башкирца в «Капитанской дочке», у которого «не было ни носа, ни ушей» [Пушкин: VI, 300], а в ходе дознания обнаруживается, что нет и языка:
…башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок [Там же: 301].
На следующий день «изувеченный башкирец» [Там же: 308] накидывает петлю на шею капитана Миронова. Исследователь отмечает, что обе сцены «иллюстрируют жестокие нравы описываемой поры» [Иванов Вяч. Вс.: 87]. Напомним: непосредственно за описанием «обрубка» языка следуют как раз слова о жестокости, порождаемой революционным насилием:
Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений [Пушкин: VI, 301].
Для Пушкина, подчеркивает исследователь, важно случившееся «смягчение нравов <…> совершавшиеся прежде пытки и калечение ушли в прошлое»:
В истории башкирца запечатлена последовательность взаимных злодейств: сперва его уродуют русские, подавившие восстание, в котором он участвовал, потом — десятилетия спустя — его собирался пытать комендант крепости, а после ее захвата этот когда-то изувеченный башкирец сам казнит коменданта. Эта цепь мучений напоминает ту, о которой по сходному поводу думает Живаго. Разница заключается во времени. Башкирское восстание и расправа с его участниками предшествовали пугачевскому бунту. Но Пушкин их объединяет, потому что делает общий вывод о русском бессмысленном и беспощадном бунте [Иванов Вяч. Вс.: 87].
Иванов обращает внимание и на различие деталей в «Капитанской дочке» и «Докторе Живаго»:
У обрубка нет правой руки и левой ноги, башкирца лишили языка, носа и ушей. Из-за отсутствия языка башкирец не мог говорить, оттого его не смогли допросить (что избавило его и от пыток в тот раз). В романе Пастернака изувеченный перед тем, как умереть, говорит, и сообщаемое им ужаснее даже его вида [Иванов Вяч. Вс.: 89].
Иванов полагает, что ключом к сближению оказывается употребление обоими авторами слова «изувеченный» по отношению к людям, становящимися «символами сходства изображаемых ими эпох и объединяющей их трагедии русской истории» [Там же]. Не менее важно повторенное Пастернаком пушкинское слово «обрубок». Отмеченный же исследователем эпитет «изувеченный» впервые возникает в романе в ключевом (во многих планах) эпизоде с раненым Гизаметдином, где, как и в «Капитанской дочке», персонаж не может говорить:
На носилках несли несчастного, особенно страшно и чудовищно изуродованного. Дно разорвавшегося стакана, разворотившего ему лицо, превратившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюстных костей, на месте вырванной щеки. Тоненьким голоском, не похожим на человеческий, изувеченный испускал короткие, обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его немыслимо затянувшиеся мучения [Пастернак: IV, 118].
Эпизод этот относится ко времени еще не Гражданской, но Первой мировой войны, жестокость которой порождает общее озверение и (разумеется, вкупе с иными факторами) готовит революцию. Напомним, что первое бессмысленное убийство, совершенное Памфилом Палых, происходит до большевистского переворота (летом 1917 года) и прямо связано с бунтом дезертиров, войну ненавидящих, но ею уже отравленных.
Наряду с «Капитанской дочкой» в «Докторе Живаго» отзывается и другое сочинение Пушкина, рисующее мужицкий бунт, неожиданно вспыхивающую безжалостную ненависть крестьян по отношению к представителям власти — «Дубровский». Мы имеем в виду рассказ Васи Брыкина об убийстве одинокой вдовы, попытавшейся спасти картошку от «изъятия излишков» при «государственной разверстке» [Там же: 470]. Когда весть об убийстве доходит до «комитета бедноты», то из города приезжает в сопровождении красноармейцев выездной суд, предъявляющий Васе обвинения и в убийстве, и в уклонении от трудовой повинности, и в подстрекании деревни к бунту. Дальнейшая судьба выездного суда и разбежавшихся жителей села отчетливо напоминает судьбу судейских чиновников и крестьян Кистеневки:
Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили, перепились вмертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом, от него — соседние. Свои, где занялось, вон попрыгали, а пришлые, никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сгорели до одного. Наших погорелых Веретенниковских никто с пепелищ насиженных не гнал. Сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять жилы-коноводы наустили, — расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал, всех по миру развеяло, где-нибудь мыкаются [Пастернак: IV, 470].
Дополнительным аргументом сходства с «Дубровским» могут послужить упоминаемые Васей слухи о возможных виновниках убийства — «лесные разбойники, разбойники им на хуторе привиделись» [Там же: 469].
Вопиюще несправедливое судебное решение в «Дубровском» обусловлено произволом всевластного «аристократа» Троекурова (возвысившегося после переворота 1762 года), а в «Докторе Живаго» — самодурством новых революционных властей. В обоих случаях зло рождает страшное возмездие. Перекличка этих эпизодов выразительно подтверждает мысль Иванова о единстве трагического восприятия русской истории у Пушкина и Пастернака.
«Повесть о двух городах» Ч. Диккенса
В ходе работы над романом Пастернак не раз подчеркивал, что пишет (или старается писать) «примитивно». Подобные писательские признания всегда должны приниматься с надлежащими поправками, но никак не могут попросту игнорироваться. За словами о злополучной «примитивности» стоит сознательная установка на выбор «готовых», не раз использованных прежде типовых сюжетных (и в известной мере — характерологических) решений. А. В. Лавров объясняет, что