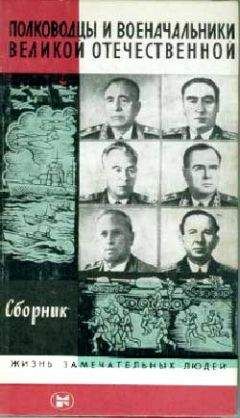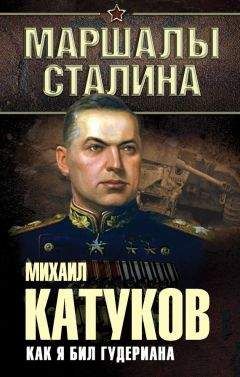Владислав Бахревский - Никон (сборник)
Сидел Шишка за столом, шапки не снимая. Пил ковшами ставленный мед, хмелел. Чем больше хмелел – тем пуще на Анюту щурился.
– Горшечник, у меня день ангела, а подарков, я гляжу, никто мне дарить не собирается?
Емельян спину пошел гнуть в поклонах.
– Не знаем, чем угодить.
– Подари мне девицу свою.
– С превеликой охотой!
Анюта аж вскрикнула.
Встал Шишка из-за стола, подошел к девушке, за косу взял.
– Поцелуй!
Молчит Анюта.
– Поцелуй! – шепчет Емельян.
– Поцелуй! – И стал Шишка косу девичью на руку наматывать.
Ближе Анюта, ближе. Да хвать у разбойника из-за пояса кинжал, провела по косе, оставила косу в руках Шишки. Сама за дверь, да во двор, да в лес.
А Шишка к пиру лицом поворотился и шапку свою на затылок со лба сдвинул. А на лбу-то у него клеймо выжжено: «Вор».
– Так-то вы меня почтили? – И, косой помахивая, спросил: – Кто у вас в Можарах самый честный человек?
И все сказали:
– Сеятель Петр!
– Встань, Петр, посмотрю на тебя!
– Нет его здесь, – говорят.
– Приведите!
Привели Петра.
– Тебя односельчане, не сговариваясь, назвали самым честным человеком на деревне, – сказал ему Шишка.
– Спасибо им на слове.
– Слыхал, что у меня день ангела?
– Слыхал.
– А чего подарка мне не принес?
– Так ведь не за что.
Засмеялся Шишка.
– Правда твоя! Не за что. Ну а я тебя одарю.
Мигнул, и за спиною Петра встали удальцы.
– Гляди мне на лоб! – приказал Шишка.
– Гляжу.
– Богом клянусь, зазря поставили мне это клеймо. По напраслине! – Засмеялся. – Теперь-то я его заслужил. И вот мой тебе подарочек: отныне ты будешь ровня мне.
Бросились удальцы Петру руки крутить, а тот и не шелохнулся. Усмехнулся Шишка.
– Отпустите ему руки. Он терпеливый, видать.
Вынул из-за пазухи клеймо. Всегда, что ли, при себе держал? Накалили клеймо в печи, подали разбойнику.
Выскочил из-за стола Никита. Только стукнуть-то злодея нечем. Схватил тарелку оловянную, замахнулся…
Эх, коли бы все на пятерых-то! А все ни живы ни мертвы, руки под стол, ноги под себя – кутята.
Окружили Никиту пятеро и отошли, а Никита на пол сел, на бок завалился. И не охнул бедняга, только ручьями кровь.
Шишка и не посмотрел в его сторону. Поднял клеймо и приложил его ко лбу Петра. А Петр не шелохнулся.
Паленым запахло – не шелохнулся.
Завизжал Шишка, выскочил на улицу, прыгнул на коня – и удальцы его за ним.
Страшно: человека жгут, а он молчит.
2Анюта бежала, бежала и опомнилась вдруг: чего стоит конному пешего догнать? Знать, не погнались. Нет бы дурочке лесом – через сугробы, а она прямехонько по дороге! Неужто спаслась?
Только подумала, заступили ей путь всадники. Погони не было, а от судьбы не убежала. Встала девушка как вкопанная, опустила руки.
– Никак Анюта!
Что за чудо? Знакомый голос, давно его Анюта не слыхала, с той поры, как Емельян погнал от себя больную обгоревшую Маланью прочь. Подняла Анюта голову – так и есть, Маланья на коне.
– Шубу сестре моей! – приказала атаманша.
Не успела Анюта глазом моргнуть, легла ей на плечи шубка, легкая, как одуванчик, теплая, как печь. Только тут и почуяла Анюта холод. У Маланьи-то из-под шапки волосы в инее. Задрожала Анюта, заплакала.
Спрыгнула атаманша с коня, обняла избавительницу свою.
– А ну, отвернитесь! – крикнула мужикам, прильнула к девушке и заплакала.
Хоть и атаманша, хоть и колдунья, а все баба.
– От кого спасалась? – спрашивает.
– От Шишки, Маланья.
Покачала головой разбойница.
– Маланья померла. Нет Маланьи. Зови меня Варварой. Слыхала про такую?
– Как не слыхать! Спаси нас от Шишки, атаманша. Житья нет. Боярин наедет – правеж, разбойник – грабеж. Защити, Маланья!
– Нету, говорю, Маланьи. Маланья на костре сгорела. И скажу тебе честно: ехала в Можары долги раздать. Угольками можарцам я задолжала.
Отшатнулась Анюта.
– И ты проклятьем на нашу голову. Господи, неужто чаша не полна? – Раскинула руки. – Жги нас! Мсти нам! Грабь! Об одном прошу: затопчи меня своими конями. Избавь мое тело от жизни. И душу вели развеять по волосиночке.
Бросилась на дорогу, распласталась. И помчались кони, да ведь восвояси! Ждала их Анюта, не дождалась.
Без всякого страха вернулась она домой в родные свои Можары.
Вошла в горницу. Емельян один за столом. Увидал Анюту, перекрестился. На колени перед ней встал.
– Прости, дьявол попутал.
Молчит Анюта.
– Про горе слыхала наше? Петру Шишка клеймо на лоб поставил.
– Уйди, Емельян!
Емельян будто ждал Анютиных слов, не противился, не артачился, ушел.
Подняла Анюта кружку с медом, запрокинула было голову, а ее кто-то дерг за подол. Оглянулась – Ванюшка-леший.
– Не узнала?
– Как не узнать, ты мне в гаданье наврал! Ванюшка-леший!
Заплакал Ванюшка.
– Не леший я теперь, в домовых. У вас под печкой живу. Тебя берег и дом, в котором ты жила. Только где ж домовому с людскими бедами справиться?.. А гаданье сбудется…
– Не верю! – закричала Анюта. – Никому не верю. Ни черту, ни Богу! Нет тебя, Ванюшка-домовой. Нет тебя! Сказка ты, и преглупая! Не на кого человеку надеяться!
Смотрит – пропал Ванюшка. В трубе заплакало, и тихо стало.
Пошла Анюта за печь, взяла узелок – и вон из дома.
Емельян в сенцах ей дорогу загородил.
– Откуда шубка-то соболья? Собралась-то куда?
– Все хитришь, Емеля? – засмеялась Анюта, а у Емельяна мураши по спине пошли: Маланья точь-в-точь смеялась.
Ушла Анюта в дом к сеятелю Петру, человеку клейменому.
Глава 2
Когда лес все тесней, вешки в ветки береза срослась с елью, ель снизу пряменькая, а вверху в две да три свечи; когда еще один шаг – и ни туда ни сюда, вершины не только солнце – небо затмили, на земле ни цветочка ни травинки, плесенью пахнет, как в погребе; когда сожмется душа от ужаса в комочек не хуже махонького ежика – знай, ты набрел на усадьбу Кумах-сестриц.
За тем частым лесом пойдет лес чахлый. Кора от стволов отпадает, деревья растут вкривь, вкось, среди кочек пузыри дуются, таращатся, а еще дальше – ласковый глазу изумрудный мох, сосны, как жар, горят, кора на них молодая, золотая, прозрачная – и в этом лесу – поляна. А на поляне – изба. Окна с наличниками, резьба хитрая, все ее знаки – сокровенные. Заглянешь в те окна – будет тебе тьма и сквозняк. Крыльцо с кокошником, высоченное, в двенадцать ступенек. Уж такая изба – царю хоромы, один изъян – без крыши. Печная труба есть, стало быть, и печка есть, но попробуй натопи синее небо, частые звезды, когда в Крещенье даже сам Мороз шубу запахивает.
Как там в избе, мало кому ведомо. Зато Кумахи про человечье житье-бытье уж очень хорошо знают.