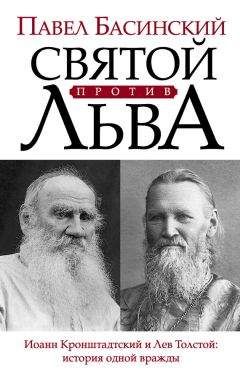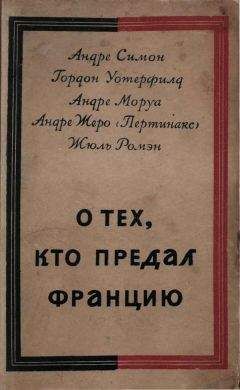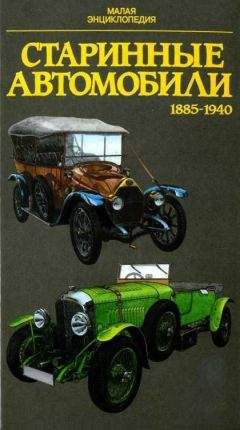Павел Басинский - Лев Толстой: Бегство из рая
В письме из Шамордина от 31 октября он пишет ей: «…возвращение мое теперь совершенно невозможно», – выделяя «теперь», подчеркивая, что возвращение всё-таки возможно. В неотправленном черновике письма он писал еще определеннее: «Постарайся… успокоиться, устроить свою жизнь без меня, лечиться, и тогда, если точно жизнь твоя изменится и я найду возможным жить с тобой, вернусь. Но вернуться теперь это значит идти на самоубийство, потому что такой жизни при теперешнем моем состоянии я не вынесу и недели».
Принципиально иначе смотрели на состояние жены Толстого Чертков и члены его «команды», включая Сашу. Даже благоволившая к В.Г. Татьяна Львовна в письме умоляла его уехать из Телятинок, чтобы не служить «красной тряпкой» для больной матери. Вместо этого Чертков затеял строительство капитального кирпичного дома. Сам Толстой был неприятно поражен внутренним роскошеством этого дома, с множеством комнат, ванною… И вот вопрос: зачем было В.Г. строить этот дом в виду очевидной скорой смерти Толстого? Ответ может быть только один. Он надеялся, что после смерти Л.Н. здесь будет располагаться своего рода «толстовский центр». Тело Толстого будет находиться в Ясной «в распоряжении» семьи. Но дух его (вместе с рукописным наследием) перенесется в Телятинки. Собственно, так оно почти и получилось. С конца 1910 года и до начала Первой мировой войны было два места паломничества «к Толстому»: Ясная и Телятинки. Война и революция разрушили планы Черткова.
Когда из рук Черткова уходили оригиналы дневников, он воспринял это как поражение в войне с графиней и предпринял ответные действия.
Валентин Булгаков пишет: «Как я узнал от Варвары Михайловны (Феокритовой. – П.Б.), в Телятинках… спешно собрались самые близкие Черткову люди – его alter ego Алеша Сергеенко, О.К. Толстая (сестра Анны Константиновны), Александра Львовна, муж и жена Гольденвейзеры, а также сам Владимир Григорьевич, и все они занялись спешным копированием тех мест в дневнике Льва Николаевича, которые компрометировали Софью Андреевну и которые она, по их мнению, могла уничтожить. Затем дневники были упакованы и отправлены в Ясную Поляну. Чертков, стоя на крыльце телятинковского дома, с шутливой торжественностью перекрестил Александру Львовну в воздухе папкой с дневниками и затем вручил ей эти дневники. Тяжело ему было расставаться с ними…»
Этот издевательский жест Черткова был как бы благословлением Саши на ее войну с родной матерью.
Перед отправкой дневников Чертков послал Л.Н. письмо, в котором сравнивал его с Христом. «Мне сегодня особенно живо вспомнилось умирание Христа, как его поносили, оскорбляли, как глумились над ним, как медленно убивали его, как самые близкие к нему по духу и по плоти люди не могли к нему пойти и должны были смотреть издали…» И Толстой воспринял эту грубую лесть как должное. «От Бати тронувшее меня письмо». Как и все «чертковцы», он называл Черткова «Батей».
Когда С.А. выбила у мужа обещание не встречаться с Чертковым, В.Г. нанес ответный удар в виде еще одного письма к Толстому. Целью его было «открыть глаза» Л.Н. на подоплеку поведения его жены и сыновей.
«Цель же состояла и состоит в том, чтобы, удалив от вас меня, а если возможно и Сашу, путем неотступного, совместного давления выпытать от вас или узнать из ваших дневников и бумаг, написали ли вы какое-нибудь завещание, лишающее ваших семейных вашего литературного наследства, если не написали, то путем неотступного наблюдения за вами до вашей смерти помешать вам это сделать, а если – написали, то не отпускать вас никуда, пока не успеют пригласить черносотенных врачей, которые признали бы вас впавшим в старческое слабоумие для того, чтобы лишить значения ваше завещание».
Это был откровенный донос. Но, увы, не лишенный правды. Маковицкий писал в своих «Записках»: «Софья Андреевна выдала свои планы: если бы узнала, что Лев Николаевич написал Завещание, то пошла бы к царю, представила бы себя нищей и выпросила бы уничтожения Завещания Льва Николаевича и введение себя в права. Думает о том с тремя младшими сыновьями: объявить Льва Николаевича сумасшедшим».
Комментируя эту запись в 1933 году, Сергей Львович Толстой не отрицал хождения в доме таких разговоров. «Я был в то время в Ясной и должен сказать, что разговоры об объявлении Льва Николаевича впавшим в старческое слабоумие и потерявшим память (а не сумасшедшим) были, но не было и не могло быть серьезных намерений. Ведь Софья Андреевна, Андрей Львович и Лев Львович знали, что я, Татьяна Львовна и Александра Львовна и, вероятно, Илья Львович не допустили бы этого. В то время они, очевидно, не сознавали всей гнусности и глупости таких мероприятий…»
Но если бы С.А. действовала хитро, сознательно и продуманно, она не стала бы говорить при людях тех вещей, которые она повторяла настойчиво, маниакально, вызывая к себе антипатию даже у сочувствующих ей лиц. Даже Лев Львович порой не выдерживал и кричал на мать, пытаясь облагоразумить ее. Она говорила, что Л.Н. влюблен в Черткова, что живого мужа для нее больше не существует, что она давно ждет его смерти и что ей не помешают его убить. Она не давала Л.Н. спать, не позволяла ни с кем оставаться наедине и непрерывно шантажировала угрозами самоубийства. Неужели же из этого можно сделать вывод о каком-то преднамеренном плане?!
Всё это Л.Н. с огромным терпением пытался втолковать В.Г. в письмах.
«Софья Андреевна очень спокойна, добра, и я боюсь всего того, что может нарушить это состояние, и потому до времени ничего не предпринимаю для возобновления свиданий с вами» (31 июля).
«…она совершенно невменяема, и нельзя испытывать к ней ничего, кроме жалости, и невозможно, мне по крайней мере, совершенно невозможно ей contrecarrer[25], и тем явно увеличивать ее страдания» (14 августа).
«…связывает меня просто жалость, сострадание, как я это испытал особенно сильно нынче…» (в тот же день).
«Как подумаешь, каково ей одной по ночам, которые она проводит больше половины без сна с смутным, но больным сознанием, что она не любима и тяжела всем, кроме детей, нельзя не жалеть…» (25 августа).
«Она страдает и не может победить себя» (9 сентября).
Толстой пытался говорить с Чертковым на человеческом языке. Но его сентиментальные письма не только не могли переубедить Черткова, а, наоборот, вызывали в нем опасение, что учитель дрогнет и переделает завещание. И опасения не были лишены оснований.
30 июля в Ясную приехал П.И. Бирюков с семьей. Ему, как доверенному лицу, рассказали о завещании, и «Поша» выразил неодобрение. Он сказал Л.Н., что держать такой документ в тайне от домашних неправильно. По-видимому, на Бирюкова произвел впечатление разговор с С.А., которая пожаловалась на свое положение в доме. Как человек, способный взглянуть со стороны, Бирюков был ошеломлен тем, что происходило в Ясной Поляне, и высказал это Толстому. И Толстой сам увидел, что сделал что-то не то.