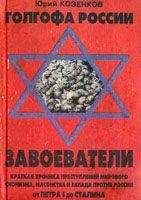Томас Манн - Путь на Волшебную гору
Что до меня, то в самых разных местах нижеследующих заметок я старался как можно яснее показать, в какой мере я связан с новым; сколько во мне той решительности, с какой новое отказывается от «неприличного психологизма» прошедшей эпохи, от вялого и бесформенного tout comprendre[25], сколько во мне той воли, какую можно назвать антинатуралистической, антиимпрессионистической, антирелятивистской, но которая как в художественном, так и в нравственном смысле все же является волей, а не простым «подчинением». Подобное я демонстрировал достаточно ярко — не только из потребности присоединиться к современности, но потому, что прежде всего мне надо было прислушаться к собственному внутреннему голосу, чтобы лучше разобрать голоса времени. В самом деле, почему я вынужден враждовать с новым, отталкиваться от него, отрицать его, чувствовать себя оскорбленным этим новым, да и в самом деле беспрестанно быть оскорбляемым и обижаемым новизной тем невыносимее и ядовитее, чем с большим литературным талантом, с великолепным стилистическим искусством, с убедительной страстью наносятся оскорбления. Это происходит потому, что передо мной, передо мной лично, нозое предстает в таком образе, какой вынуждает возмутиться во мне все личностно — безличное, непосредственное, невысказываемое, инстинктивное, в образе, возмущающем национальный, фундаментальный элемент моей природы и моего образования: в политическом образе.
Никакой анализ нового пафоса не обойдется без слова «политика». В самой его оптимистическо — прогрессистской природе лежит нечто, что отделяет новый пафос от политики всего‑то на два шага: приблизительно на два шага — да и не только приблизительно — а в том именно смысле, в каком масонство и иллюминатство романского пошиба удалено от политики именно на это расстояние, и не всегда может сдержаться, чтобы это расстояние не преодолеть. Тот же, кто стал бы интересоваться, какая политика родственна новому пафосу, продемонстрировал бы тем самым свое заблуждение, будто бы есть два рода «политики», или даже много «политик», в то время как политика может быть только одна — демократическая. Если в нижеследующих замет — ках понятия «политика» и «демократия» будут переплетаться, то происходить это будет по необычайно ясно осознанному праву. Нет «демократического» или «консервативного» политика. Есть политик. Или его нет. А если он — политик, то он — демократ. Политическое состояние духа — состояние духа демократическое; вера в политику — это вера в демократию, вера в contrat social[26]. Уже больше чем столетие все то, что можно понимать под словом «политика» в духовном смысле, возвращается к Жан — Жаку Руссо: он — отец демократии в той степени, в какой он — отец политического духа, политической человечности.
Итак, новый пафос обращен против меня как демократия, политическое просвещение, как филантропия счастья. Политизация’любых форм этики — так я понял его интенции; его агрессивность и доктринерская нетерпимость заключаются в отвержении и осмеянии любой неполитической этики (это я узнал на собственной шкуре). «Человечество» — как гуманитарный интернационал; «разум» и «добродетель» — как некая вещь, застрявшая между якобинским клубом и масонской ложей «Великого Востока»; искусство в качестве социальной литературы и плавящейся от злобы риторики на службе у социальной «желательности» — таков в своей чистой политической культуре новый пафос, таким я его разглядел вблизи. Я признаю, что это — особая, крайне романтизированная и романизированная форма нового пафоса. Но моей судьбе было угодно столкнуться именно с этой формой; к тому же, как я уже говорил, в каждое мгновение своего существования новый пафос готов принять именно эту форму: «Действенный дух», то есть дух, который «всегда готов» решительно действовать во имя просвещенческого освобождения, улучшения, осчастливливания мира, он недолго остается политикой в отвлеченном, широком значении этого слова, он моментально становится политикой в самом узком, непосредственном смысле. И уж коли мы взялись задавать дурацкие вопросы: что это за политика? Германофобская, это ясно как день. Политический дух, с логической неизбежностью проявляющий себя противонемецким в сфере духа, в сфере политике оказывается германофобией.
Если в нижеследующих заметках я высказал мнение, что демократия, что политика чужды и вредны самому немецкому существованию; если я сомневался или даже оспаривал пригодность Германии для политики, то это происходило не по смехотворной (с личной или деловой точек зрения) причине, де, я хочу отбить у моего народа волю к реальности, внушить ему сомнение в справедливости своих мировых притязаний. Я признаю, что глубоко убежден: немецкий народ никогда не сможет полюбить демократию, по той простой причине, что он никогда не сможет полюбить политику, и что многажды ославленное «чиновничье, полицейское государство» есть и остается наиболее приемлемой и глубоко желаемой немецким народом формой государственного существования. Для того чтобы решиться высказать это убеждение, сегодня требуется немалое мужество. Хотя этим убеждением не только не выказывается какое‑либо умаление немецкого народа в духовном или нравственном смысле — как принято почему‑то считать, — но напротив, его воля к власти и земному величию (каковая, по меньшей мере в качестве воли, является и роком народа, и его всемирно — исторической необходимостью) остается полностью непоколебленной в своей правомочности. Есть в высшей степени «политические» народы, народы, которые вообще не выходят из политического возбуждения, однако в силу нехватки государственных и властных способностей они не принесли и не принесут человечеству что‑нибудь стоящее. Я имею в виду поляков и ирландцев. С другой же стороны великая история есть единственная цена организаторских государствообразущих сил в основе своей неполитического немецкого народа. Если взглянуть на то, куда завели Францию ее политики, то можно получить ясное доказательство того, что «политика» не всегда на пользу стране и народу; что не исключает и другого доказательства: без «политики» тоже можно дойти до опасного края. Если я, со своей стороны, объявляю политический дух враждебным, чуждым Германии, то здесь не может быть никаких недоразумений. То, против чего вынуждено возмутиться самое глубокое во мне, мой национальный инстинкт, был вопль о «политике» в том значении этого слова, которое присуще ему в духовной сфере. Это — «политизация духа», искажение понятия «дух» в угоду улучшательскому Просвещению, революционной филантропии, которые действуют на меня как яд и operment[27]; я убежден, эти протест и отвращение вызваны не чем‑то личным и временным, нет, в них проявилось мое национальное бытие. Дух — не политика: немцу нужно быть вовсе не плохим современником XIX века, чтобы не на жизнь, а на смерть стоять за это «не». Различие между духом и политикой содержит в себе различие между культурой и цивилизацией, душой и обществом, свободой и всеобщим избирательным правом, искусством и литературой; германство (Deutschtum) — это как раз и есть культура, душа, свобода, искусство, но не цивилизация, общество, всеобщее избирательное право, литература. Если расширять сравнение, то различие между духом и политикой подобно различию между космополитическим и интернациональным. Первое понятие принадлежит культурной сфере, это — немецкое понятие; второе свойственно цивилизации и демократии, оно — нечто совсем не немецкое. Интернационален — демократический буржуа, в какие бы национальные одежды он ни драпировался; бюргер — и это одна из тем этой книги — космополитичен, поскольку on — немец, он — немец в гораздо большей степени, чем князья или «народ»: этот человек географической, социальной и духовной «середины» всегда был и останется носителем немецкой духовности, человечности и антиполитики…