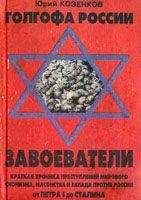Томас Манн - Путь на Волшебную гору
Но в какой степени я не таков? В какой степени я «связан» и предопределен? Если я не ничто, как они, то что же я? Вот вопросы, которые «гнали» меня на эту «галеру», вот вопросы, на которые я пытался найти ответы. Знание, до которого я добирался, было колебательно, туманно, недостаточно, диалектически — односторонне и искажено чрезмерными усилиями. Должен ли я в последнее мгновение попытаться укрепить это знание в мучительном успокоении?
В самых своих важных духовных чертах я — настоящий сын девятнадцатого столетия, на которое падают первые двадцать пять лет моей жизни. Конечно, в самом себе я обнаруживаю многие артистическо — формальные, а также духовно — нравственные элементы, потребности, инстинкты, которые принадлежат новейшей эпохе. Но в качестве писателя я чувствую себя отпрыском (естественно, не участником) немецко — бюргерского повествовательного искусства девятнадцатого века, которое простирается от Адальберта Штифтера до Теодора Фонтане; скажем так: насколько все мои традиции, все мои артистические склонности тянут меня назад, в родной, отеческий мир немецкого мастерства, который всякий раз очаровывает и укрепляет меня, едва лишь я приду с ним в соприкосновение, настолько мой духовный центр тяжести лежит по ту сторону поворотного пункта столетий. Романтика, национализм, бюргерство, музыка, пессимизм, юмор — вся эта атмосфера прошедшей эпохи образует в главных чертах неличностные, неперсональные составляющие моего духовного бытия. Но это ведь и то основное настроение, душевная расположенность, черты характера, которыми XIX столетие в целом отличается от предшествующего и, как это становится все яснее и яснее, отличается и от нынешней, современной эпохи. Ницше раньше всех и лучше всех попытался определить различие в характерах эпох.
«Честное, зато печальное»[18], — называет Ницше XIX столетие в противоположность восемнадцатому, которое он, как и Карлейль, считает женственным и лживым. Однако в своей гуманной социальности восемнадцатое столетие было охвачено духом на службе желательности, чего вовсе не знал XIX век. Анималистичнее и безобразнее, даже плебеистее и как раз поэтому «честнее», «благороднее», чем то столетие, было девятнадцатое в своем подчинении действительности любого рода. При этом оно, конечно, было слабовольно, печально и темно — чувственно, фаталистично. Ни перед «разумом», ни перед «чувством» оно не выказывает ни боязни, ни уважения, даже мораль это столетие, благодаря Шопенгауэру, редуцировало до инстинкта, инстинкта сострадания. Девятнадцатое столетие пыталось определить себя как столетие научное, лишенное каких бы то ни было желаний, освобожденное от доминирования идеала, движимое исключительно научными теориями; и все это для того, чтобы оправдать свою фаталистическую подчиненность действительности. Восемнадцатый век, напротив, старался забыть все то, что было даже тогда известно о природе человека, для того, чтобы приспособить человека к своей утопии. Поверхностное, мягкое, гуманное, мечтающее о «человеке», восемнадцатое столетие превращало искусство в пропаганду реформ политического и социального характера. По сравнению с этой чувствительностью даже Гегель с его фаталистическим образом мысли, его верой в больший разум победоносного, с его оправданием реального «государства» (вместо воображаемого «человечества») означает успех. Ницше же говорит об антиреволюционаризме Гёте, о его «воле к обожествлению целого и жизни… дабы в их созерцании и исследовании обрести покой и счастье»[19]. Ницшеанская критика, критика не без сочувствия, оказывается в высшей степени позитивной[20]; Ницше описывает в действительности религиозность целой эпохи, в то время как Гётевская природа предстает у него исполненной «почти радостного, доверчивого фатализма, не бунтующий, не утомленный, из себя самого стремящийся создать нечто целостное, веруя, что только в целом все освобождается и является благим и оправданным».
Ницшевская критика прошедшего столетия, этой мощной, но мало «великодушной», в духовном смысле вовсе не галантной эпохи, никогда не казалось столь великолепно точной, как с сегодняшней, с теперешней точки зрения. Недавно я высказался в том смысле, что Шопенгауэр был «социально — альтруистичен» именно потому, что его нравственность венчается инстинктом сострадания — сегодня я ставлю жирный знак вопроса там, где он и стоял. Философия воли Шопенгауэра (никогда не склонного забывать об истинной природе человека) была лишена какой бы то ни было воли к желательному; в ней не было ни намека на какую бы то ни было социальную или политическую заинтересованность. Его сострадание было способом искупления, а не средством улучшения действительности в любого рода оппозиционном, духовно — политическом смысле. Здесь Шопенгауэр был христианином. Попробовал бы кто‑нибудь поговорить с ним о социально — реформаторских задачах искусства! С ним, для которого эстетическое состояние было блаженным царством чистого созерцания, остановкой колеса Иксиона, освобождением от желаний, свободы как искупления — и ни в каких других смыслах. Тут и флоберовский жесткий эстетизм, его безграничное сомнение со знаком nihil в качестве итога, со всею его насмешливой резиньяцией: «Hein, le progress, quelle blague!»[21]. Тут и злая ибсеновская голова, даже внешне похожая на шопенгауэровскую. Ложь, как условие жизни, носитель «нравственных начал» в качестве комической фигуры; Яльмар Экдаль в качестве человека как такового; его пошло реалистическая жена в качестве создательницы права и прав, циник в качестве резонера, перед нами настоящая аскеза порядочности; истинный грубый, девятнадцатый век. И сколько же ибсеновского брутального и честного пессимизма, сколько его особого, мужского, строгого, «лишенного потребностей» этоса оказалось в «Realpolitik» Бисмарка, в бисмарковской антиидеологии!
Я признаю, что эта многообразно варьируемая тенденция и основное настроение XIX столетия, его истинная, не прекраснодушная, не сентиментальная, отворачивающаяся от культа красивых слов, подчиненность факту и действительности, оказывается самым главным наследством, какое я от этой эпохи получил; это наследство ограничивает и связывает все мое существо; защищает меня от вновь появившихся, определенных тенденций, отрицающих мой мир, как мир лишенный этической основы. Роман 25–летнего человека, появившийся на пороге нового столетия, был лишен какого бы то ни было «духа на службе желательности»; в нем не было и намека на социальную «волю»; роман был совершенно не патетичен, нериторичен, несентиментален; скорее уж он был пессимистичен, юмористичен и фаталистичен; со всем своим меланхолическим детерменизмом роман был исследованием распада. Достаточно одного небольшого фрагмента — надеюсь, мне простят автоцитату, — чтобы точно обозначить духовно — историческое место моего произведения. Ближе к концу в романе рассказываются горькие и нелепые школьные истории. «Те, — значится там, — из двадцати пяти юнцов, что отличались устойчивой конституцией и были достаточно сильны и крепки, чтобы принимать жизнь такой, как она есть, и сейчас просто отнеслись к положению вещей — не почувствовали себя оскорбленными, а, напротив, сочли все это само собой разумеющимся и нормальным. Но среди них нашлись и такие, чьи глаза в мрачной задумчивости уставились в одну точку…» Эти глаза принадлежат сублимированному вырождением, музыкально одаренному последышу бюргерского рода, маленькому Иоганну, Ганно Будденброку. «Маленький Иоганн не отрываясь смотрел на широкую спину Ганса — Германа Килиана, и его золотисто — карие глаза выражали отвращение, внутренний протест и страх…» Ну что ж, это отвращение, этот сенситивно — нравственный бунт против жизни «такой, как она есть», против данного, против действительности и «власти», — это отвращение как раз и является знаком распада, биологического несовершенства; сам дух (и искусство) понимаются и изображаются как симптомы того же самого, как продукты вырождения: это и есть девятнадцатое столетье, это те самые отношения, в которых (по мнению этого века) находятся дух и жизнь — правда, переданы эти взаимоотношения в особенной, экстремальной нюансировке, каковая стала возможна только после кульминации этой меланхолическо — благородной тенденции в творчестве Фридриха Ницше.