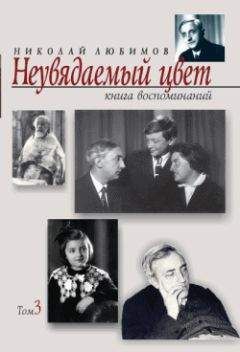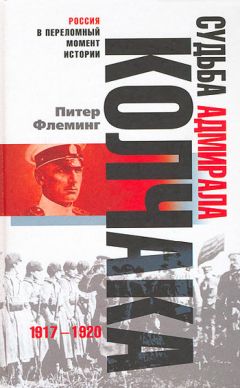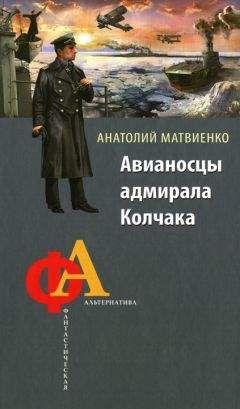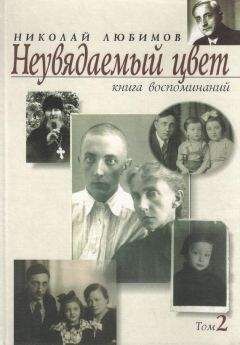Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 3
Прелесть непринужденности, задушевности придает эллипсис и первым строкам «Стансов к Августе»:
Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.
Пастернак-переводчик, как и поэт оригинальный, и в синтаксисе не менее разнообразен, чем в лексике. Стихи Бориса Пастернака:
Стихи мои, бегом, бегом,
Пусть вьюга с улиц улюлю.
Вы – радугой по хрусталю.
А вот строфа из его перевода «Лютера» Иоганнеса Бехера – стихи здесь бегут бегом вслед за героем:
Он в их кольце. Пропало. Окружили.
И вдруг спасенье. Он прорвал кольцо.
Какой-то лес; лесной тропы развилье;
Какой-то дом; он всходит на крыльцо.
Вот почти такая же стремительная строфа из стихотворения Словацкого «Кулиг»:
Кони, что птицы. В мыле подпруги.
Снежную кромку режут полозья.
В небе ни тучки. В призрачном круге
Месяц свечою встал на морозе.
Вот монолог Отелло, только что прибывшего на Кипр, спешащего поделиться новостями и узнать, что нового на Кипре, – монолог, состоящий из быстрых, коротких, одна на другую набегающих фраз:
Пройдемте в замок. Новости, друзья;
Поход окончен. Турки потонули.
Ну как на Кипре? Я ведь тут бывал.
Что старые знакомцы, Дездемона?
А там, где того требует подлинник, Пастернак возводит стройные и величественные здания периодов, сочетая в себе зодчего и живописца:
И высящиеся обрывы
Над бездной страшной глубины,
И тысячи ручьев, шумливо
Несущиеся с крутизны,
И стройность дерева в дуброве,
И мощь древесного ствола
Одушевляются любовью,
Которая их создала.
(«Фауст», часть вторая)
Во второй строфе стихотворения Петефи «Моя любовь» неторопливое течение периода и плавный ритм дорисовывают образ автора:
Моя любовь не тихий пруд лесной,
Где плещут отраженья лебедей
И, выгибая шеи пред луной,
Проходят вплавь, раскланиваясь с ней.
Пастернак – оригинальный поэт обладает редкостной силы темпераментом. Укажу, как на пример, на «Весеннюю распутицу». Не укрощает он его и в переводах. Помню, как ошеломили меня первые его переводы из Петефи. В изображении дореволюционных переводчиков Петефи выглядел унылым и вялым, этаким третьесортным Суриковым. И вдруг —
Ну так разбушуйся, лира!
Выйди вся из берегов.
Пусть струна с струною сцепит
Смех и стон, и плач и лепет,
Спутай жизнь и смерти зов!
Будь как буря, пред которой
Дубы с корнем – кувырком…
Послушаем хор духов из «Фауста»:
Рухните, своды
Каменной кельи!
С полной свободой
Хлынь через щели,
Голубизна!
В тесные кучи
Сбились вы, тучи.
В ваши разрывы
Смотрит тоскливо
Звезд глубина.
С тою же силой,
Как из давила
Сок винограда
Ценною бурей
Плещет в чаны,
Так с Верхотурья
Горной стремнины
Мощь водопада
Всею громадой
Валит в лощину
На валуны.
Здесь на озерах
Зарослей шорох,
Лес величавый,
Ропот дубравы,
Рек рукава.
Кто поупрямей —
Вверх по обрыву,
Кто – с лебедями
Вплавь по заливу
На острова.
Раннею ранью
И до захода —
Песни, гулянье
И хороводы,
Небо, трава.
И поцелуи
Напропалую,
И упоенье
Самозабвенья,
И синева.
Динамичность глаголов и метафор, энергию которых временами еще усиливает повелительное наклонение (рухните, хлынь, сбились, мчатся, хлещет, валит, пенная буря), и эллиптическая конструкция придают описанию весны особую стремительность, особую широту охвата, способствуют неразрывной цельности восприятия.
Пастернак – признанный мастер звукописи. Таков он и в своих переводах. Как сказал бы Фет, он обладает способностью звуком навеять на душу читателя самые разнородные впечатления.
Но для зрелого Пастернака звукопись – не самоцель. Вот почему мы ее обычно не замечаем, хотя она и усиливает наше впечатление от его мыслей и образов:
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.
(«Все наклоненья и залоги…»)
От звукосочетаний, передающих гул и грохот громовых раскатов или ропот морских валов, он без труда переходит к убаюкивающей инструментовке:
Зашурши, камыш! Мне дорог
Тихий тростниковый шорох.
Тополь, всколыхнись лениво,
Содрогнись листвою, ива,
И тогда я вновь усну.
(Монолог Пенея из «Фауста»)
Пастернак в своей оригинальной поэзии не ломает метрики русского стиха, он – виртуоз ритма.
В его переводе «Фауста», помимо всего прочего, нас поражает наряду с разнообразием рифмовки смена ритмов, призванных передать и торжественный хорал, и залихватскую песню гуляк, и обыкновенную, «среднюю» разговорную речь, и раешное озорство и балагурство.
Пастернак словом, интонацией, ритмом, звуком создает самые разнообразные характеры во всей их сложности. И этот его дар, пожалуй, нигде так полно не раскрывается, как в «Фаусте». Речь Вагнера терминологична, понятийна, безобразна, бесцветна. Рядом с этим словесным гербарием – причудливый сплав речевой характеристики Мефистофеля с его развязно-небрежным тоном циника, поддержанным канцеляризмами и просторечием, и с его монологами, в которых зловещий словесный колорит и бешеная раскачка ритма служат одной цели – показать истинное обличье Мефистофеля.
Мир бытия – досадно малый штрих
Среди небытия пространств пустых.
Я донимал его землетрясеньем,
Пожарами лесов и наводненьем.
И хоть бы что! Я цели не достиг.
И море в целости и материк.
А люди, звери и порода птичья,
Мори их, не мори, им трын-трава.
Плодятся вечно эти существа,
И жизнь всегда имеется в наличье.
Иной, ей-ей, рехнулся бы с тоски!
На курганы лег туман,
Завывает ураган.
Гул и гомон карнавала
Распугал сычей и сов.
Ветер, главный запевала,
Не щадит красы лесов,
И расселины полны
Ворохами бурелома
И обломками сосны,
Как развалинами дома,
Сброшенного с крутизны,
И все ближе, ближе вой,
Улюлюканье и пенье
Страшного столпотворенья,
Мчащегося в отдаленье
На свой шабаш годовой.
Это уже злой дух ликующе распростер крыла в Вальпургиеву ночь.
Не менее широк лексический и ритмический диапазон в речевой характеристике Фауста.
Вот она, эта порывистая, мятущаяся душа, вечно стремящаяся вперед и выше:
Все шире даль, и тянет ветром свежим,
И к новым дням и новым побережьям
Зовет зеркальная морская гладь.
О, эта высь, о, это просветленье!
И вот другой Фауст, раздраженный, возмущенный, бунтующий:
«Смиряй себя!» Вот мудрость прописная;
Извечный, нескончаемый припев,
Которым с детства прожужжали уши,
Нравоучительною этой сушью
Нам всем до тошноты осточертев.
И вот Фауст, пока еще добродушно ворчащий на пуделя; заключенные в напевный дактиль интонации звучат, однако, по-равному живо:
Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай!
Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог.
Ну-ка – за печку и располагайся к ночлегу.
Право, приятель, на эту подушку бы лег.
А многоголосье народных сцен! А хоры ангелов! А перекличка ведьм! А хоры полишинелей! А песня нищего! А хор крестьян! А песня солдат!
Оригинальная поэзия Пастернака и его поэзия переводная являют собою, как и у Бунина, нерасторжимое единство, единонаправленность усилий, органическую, нерушимую, теснейшую взаимосвязь.
Между тем пастернаковский «Фауст» зачинался и рос нелегко. Конечно, этим великим произведением русского поэтического искусства мы обязаны в первую очередь самому Пастернаку. Но тут невозможно не помянуть добрым словом Вильмонта, который натолкнул Пастернака на мысль о новом переводе «Фауста», а в процессе работы переводчика неустанно помогал ему своим знанием Гете вообще и «Фауста» в частности. Наконец, вспомним, что к моменту подготовки однотомника Гете Пастернака уже начало сжимать кольцо глухой злобы (ведь это было после доклада Жданова). Одновременно пополз брюзгливо-ядовитый шепоток литературных староверов, которым медведь на ухо наступил, или прелестного в своем невежестве профессора Металлова, который, после того, как переводчик Левик, защищая какую-то свою строчку в переводе из Гейне, процитировал ему Тютчева, при следующем свидании с ним победоносно заявил: «Читал я этого вашего Тютчева: не такой он поэт, чтобы на него ссылаться», – тут образовался «сладостный союз». Эту, – правда, немногочисленную, – рать рассеял все тот же Вильмонт, ворвавшийся в кабинет директора Гослитиздата Головенченко со словами: «Федор Михайлович! Не слушайте вы этих старых пердунов!» Головенченко был человек смелый. Он не побоялся заключить с Пастернаком договор, и таким образом участь русского «Фауста» была решена.