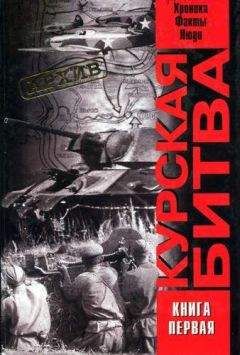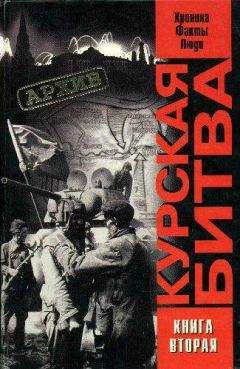Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
И теперь мы подходим к общей причине всех зол и к корню трагедии всей ее жизни. «Ирина — патриотка». Весь ее дневник того времени наполнен мыслями о спасении России. «Куда нам бежать? Лучшего я не найду, но хуже, может быть, и будет во много, много раз хуже, если Россия будет покорена каким-нибудь другим государством. Пережить такое унижение родины я не могу». Она ищет утешения в Евангелии, которое открывает наудачу и читает «слова Христа о том, что не надо унывать, что Господь всегда поможет верующим в Него, и если Он не делает это теперь, то сделает после».
Конечно, слова о спасении России и всевозможные комментарии к событиям гражданской войны в устах девочки — фразеология, в значительной степени со слов других, но в данном случае — чувство любви к родине, к России явилось для Ирины тем ядом, который отравил, довел до отчаяния всю ее душу и, в разных формах, повлиял на содержание ее стихов. Теперь, особенно после отъезда за границу, она жила под наложенным на себя обетом, что у нее не может быть личных радостей, пока не воскреснет Россия, что даже стыдно думать о собственном благополучии в такое время, что наше собственное мизерное существование есть необходимая и единственная, доступная нам жертва, которую мы приносим судьбе в деле возрождения России. Большинство ее стихотворений этого периода (и отчасти африканского) полно этим содержанием — тоской по России, в частности, по Харькову, по своей подруге — Тане…
Приведу несколько из них.
ИЗГНАННИКИ
В нас нет стремленья, в нас нет желанья,
Мы только тени, в нас жизни нет.
Мы только думы, воспоминанья
Давно минувших счастливых лет.
К нам нет улыбки, к нам нет участья,
Одни страданья для нас даны.
Уж пережить мы не в силах счастья,
Для новой жизни мы не нужны.
У нас нет жизни — она увяла,
У нас нет мысли в немых сердцах.
Душа стремиться и жить устала —
Мы только призрак, мы только прах!
22.1.1920. Туапсе
ГОРЕ
Как просто звучало признанье
Безмолвною ночью, в глуши,
И сколько таилось страданья
В словах наболевшей души.
И сколько безмолвной печали
Скрывалось на сердце младом!
Слова же так просто звучали
В холодном тумане ночном.
И капали робкие слезы —
Их не было сил удержать,
И сонно шептались березы,
И звезды устали мерцать.
А горе так долго томило,
И сердце устало страдать,
Печаль свою звездам открыло,
Но звезды не могут понять.
И горе цветам рассказало,
Хоть гордо молчали цветы,
Кой-где лишь слезинка дрожала,
Едва серебрила листы.
И ночь пролетала в молчанье,
И слезы таились в глуши,
И сколько звучало страданья
В словах наболевшей души!
30. IX.1920. Симферополь. Училищная ул. Во время бессонницы. На дырявой койке.
А вот ее первое «беженское» стихотворение:
И ничто мне теперь уж не мило,
Пыл погас, в сердце нету огня,
Даже то, что так страстно любила,
Уж теперь не волнует меня.
Равнодушно, надменно, сурово
Я слежу за дыханьем весны,
И не жажду я радости снова,
Вас не жду, златокрылые сны.
Прочь летите в счастливые страны,
Улетайте в цветущую даль —
Здесь неволя, здесь только обманы,
Здесь безумная веет печаль.
20. XI.1919
Агитпоезд «Единая, Великая Россия».
РОСТОВ. КАВКАЗ
С ноября 1919 г. по март 1920 г. мы странствовали, катились, как беженцы, от Харькова до Туапсе. Ростов был первым этапом нашего странствия. Приехавшие за несколько дней до меня жена с дочерью не без труда нашли там старого знакомого, профессора (мед. химии) Ростовского Университета (быв. Варшавского) С.М.Максимовича, и поместились у него. Это был старый друг жены (еще по Казани, где он был студентом, носившим жюльверновскую кличку «Поганель»), на нашей свадьбе он был шафером. Несколько дней мы отдохнули в этой дружеской атмосфере, и, между прочим, в лаборатории профессора нам всем троим была сделана сыпнотифозная прививка, только что входившая тогда в практику, сослужившая нам в течение всего нашего беженства огромную роль. Сознание, что мы иммунизированы против этой болезни, придавало нам много бодрости и, может быть, даже, действительно, в какой-то степени, спасало нас от заражения среди той тифозной эпидемии, которая царила вокруг. После чудесной и милой передышки в Ростове мы тронулись дальше, через Азов, в составе Харьковского Учебного Округа.
Рождество встретили мы в теплушках на ст. Тихорецкой. Затем мы выбрали направление на Туапсе. Точно я не могу сказать, почему я на нем остановился, — многие из наших «окружных» выбрали Майкоп, как более спокойный и «хлебный» пункт Кубанской области, но мне захотелось солнца и моря, и мы направились к Туапсе. Настроение несколько поднялось, даже у Ирины оно сказалось в бодрых, редких для того времени, стихах.
МГНОВЕНИЕ
Пускай недавние мученья
Терзали грудь,
Сейчас — живые впечатленья
И новый путь.
Зачем, скажи, бунтует горе
И лжет печаль —
Передо мной ликует море
И блещет даль.
Зачем меня к себе напрасно
Зовет тоска —
Жизнь хороша и так прекрасна,
И так легка.
29. XII.1919. Ст. Белореченская.
В день приезда была сильная гроза с ливнем. Мы стояли на путях и слышали, как раскаты грома отдавались в горах, словно поздравляли нас, по выражению Ирины, «с Новым Годом, с Новым Горем». Под самую «встречу» Нового Года мы перебрались в Греческое училище. «Мы начали устраиваться, — пишет Ирина. — Одну парту вынесли на галерею, одну приставили к стене, а две другие составили скамейками вместе, а поверх положили доску, снятую со стены. Достали из чемодана примус и вскипятили чай. Чашек не было. Попросили у гречанок. Подошел вечер. Мамочка с папой Колей постелили на доску шубы и устроили там постель. Я легла на корзине. Папа Коля расхварывался: у него был жар. Я была кислая и усталая. Когда мы легли, мамочка еще долго сидела одна, — читала при свечке Евангелие и плакала…
Это было 31 декабря, в последний день старого года». (Ир. Кнорринг. «Двадцатый год»).