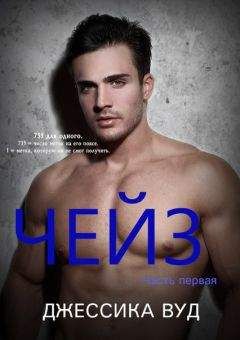Михаил Козаков - Актерская книга
— Спасибо, — сказал я. — Большое вам спасибо, что я все это узнал. Спасибо.
Так проклятая пиковка дорассказала мне историю с Зоей-первой. Зои-второй, моей мамы, к этому времени уже не было в живых. О Зое-третьей еще никто не помышлял. «Зоя» по-гречески — «жизнь». Блокадный облик моей бабушки запечатлен в стихах Заболоцкого 47-го года. Жена Заболоцкого, Екатерина Ивановна, жила во время блокады в том же ленинградском доме на канале Грибоедова и навещала слепую.
Или помнишь, в страшный день бомбежки,
Проводив в убежище детей,
Ты несла еды последней крошки
Для соседки немощной своей.
Гордая, огромная старуха,
Страшная, как высохший скелет,
Воплощеньем огненного духа
Для тебя была на склоне лет.
Взгляд ее был грозен и печален.
Но она твердила всякий раз:
«Помни, Катя, есть на свете Сталин,
Сталин позаботится о нас».
Сталин позаботился и о слепой бабушке Зое, и маме Зое, и о самом авторе стихов Заболоцком, отсидевшем в лагере…
XX
«Ах какая драма „Пиковая дама“»! Куда только не увлекала меня за собой. В поисках всяких ассоциаций и живых наблюдений, готовясь снимать уже в 86-м году все ту же вечную мою пиковую спутницу, я стал свидетелем прощания с актрисой МХАТа, народной артисткой СССР Анастасией Платоновной Зуевой. Сам Константин Сергеевич Станиславский, ценивший ее живое дарование, предостерегал: «Ради Бога, ни одного слова о моей системе Зуевой! Она начнет думать, как играть, — и все пропало. Если сороконожка задумается, с какой ноги ей пойти, она замрет навсегда».
Теперь о похоронах, точнее, о гражданской панихиде А. П. Зуевой в здании на Тверском. Так сказать, похоронное шоу. Софья Станиславовна Пилявская сказала, что накануне было отпевание — гроб с останками ночь был в церкви. «Там она была красавица! — сказала Зося в свойственном ей стиле. — Теперь не то». «Что же, Софья Станиславовна, меня не предупредили, что было отпевание? Я бы лучше туда пошел! Вы же знаете меня!» — «Виновата, Миша, виновата…» Я задаю себе вопрос: а почему я пошел на похороны Насти? Ведь не ходил же я во МХАТ на прощание со Станициным, Массальским и другими… Ведь и Виктор Яковлевич, и Павел Владимирович были как-никак моими учителями! А Зуева — нет.
Первое: я могу ходить на юбилеи и похороны только с чистым сердцем, повинуясь внутренней потребности. Со Станициным, Массальским что-то связывало, но многое разделяло по сути. Как-то так сложилось с Настей, которую, в сущности, я мало знал, а может, именно поэтому, что чувствовал лучшее в ней. Она была, несмотря на свой наив, живым человеком. Есть какая-то метафизика, что прекрасный стих Бориса Леонидовича Пастернака «Талант — единственная новость, которая всегда нова» — именно ей. Конечно, конечно, так бывает, что «предмет» для поэта лишь повод. К тому же лукавство и способность Пастернака увлекаться во многих случаях замечались Ахматовой и другими, близко знавшими Бориса Леонидовича. Он был увлечен плохим спектаклем «Мария Стюарт» во МХАТе (я не раз видел!), игрой Тарасовой в роли толстой, скучной, академической Марии и превознес ее до небес в своих стихах. Перевод-то был его, Пастернака, и он прозвучал. В те годы это для него, для всех было событием. Может, поэтому и стихи замечательные?
Зуева пригласила Пастернака на свой юбилей.
Прошу простить. Я сожалею.
Я не смогу. Я не приду.
Но мысленно на юбилее —
В оставленном седьмом ряду.
Так возникло письмо-стихи Зуевой. Так что не только из-за стихов я пошел на похороны. Не пошел же я к Тарасовой — стихи не хуже.
Настя была живым человеком. Те редкие встречи у Яншина, за ресторанным столиком в ВТО, когда мы, по-молодому весело, с матюшком, выпивали с ней (а ей ведь тогда было уже далеко за семьдесят); ее приходы на вечера в ВТО, интерес к жизни других людей — вот объяснение. Ну и конечно, — прости, Господь, прости, Настя, — похороны старой графини. «Никто не плакал. Графиня была так стара, что слезы были бы притворством».
Анастасия Платоновна была старше Анны Федотовны. Официально — под девяносто, а актер Костя Градополов шепнул мне, что она «зажала» шесть лет. Забавно. Гроб стоял на возвышении. Я поднялся по высоким бархатным ступеням (нет, не бледен, как сама покойница), смотрел на ее мертвое лицо. Веки слиплись, рот был чуть приоткрыт. Лоб и волосы прекрасны. Я поцеловал ее сложенные на груди руки.
Хорошо, что я пришел до шоу, когда в большом зале почти никого не было. Потом пришли те, кто принимал участие в суетных и несуетных увеселениях покойницы. И началось! Боже, что же это все такое! Бедная Настя, бедные мы! За что? «Партия и правительство высоко оценили…» — это Ануров, директор МХАТа, с длиннющими паузами. По тону скорбно, а сам не знает, что сказать. Потом замминистра культуры Зайцев лепетал «партия и правительство… искусство… Станиславский и Немирович… Коробочка… русская актриса… партия и правительство… народная артистка СССР… лауреат Государственной премии». От горкома профсоюза какая-то баба в черной кофте с люрексом. Тут начался цирк: «Антонина Платоновна Зуева… прощаемся… провожаем… в дальний путь». В зале ропот, кто-то шепнул: «Хорошо хоть, что не в светлый путь, как в картине Александрова».
Я говорю: «Парадокс, но, может, и так». Баба из горкома: «Актриса Зубова…» В зале ропот пуще. Она: «Простите, волнуюсь, горе такое!» Потом Татьяна Доронина долго проповедовала у гроба о заповедях Станиславского.
Справедливости ради надо сказать, что кое-что в ее рассуждениях было точно. Она, кажется, действительно, если и не любила Зуеву — за любовь к себе, о чем она не преминула сказать (что ж, простим это Татьяне), то ценила зуевскую любовь к сцене, некую нравственную, художническую позицию, отличавшую ее от многих МХАТовских циников. Но все-таки справедливость многих доронинских рассуждений (заметим — у гроба) о нравственности скорее напоминало полемику с Ефремовым и кем-то вроде не то Вертинской, не то Мирошниченко. Фамилии называю наугад, точно определить направленность доронинской полемики не могу. Но что выступление у гроба было еще и поводом — точно. Моя бывшая сокурсница была в черном бархате. Белая блондинка с чувством сыграла речь, внутренне рассчитанную на аплодисменты. Партер был заполнен сидящими в мягких широких креслах, однако не захлопали, удержались.
Артист Николай Пеньков с чувством прочел строки письма не пришедшего Марка Исааковича Прудкина. Это, пожалуй, были единственные человеческие слова, к сожалению, исполненные другим артистом. Письмо короткое: «Настя, Настенька, нас мало, дружок, до свидания!» Прудкин, как старая барская барыня в «Пиковой даме», которая искренне всплакнула у гроба старой графини. Как все люди, и по себе тоже. «Никогда не спрашивай: по ком звонит колокол…» Когда объявили, что слово имеет представитель завода «Красный пролетарий», я ушел. Так для меня закончился последний спектакль Анастасии Платоновны Зуевой, в котором она, бедная, абсолютно не виновата. По завещанию ее отпевали в церкви. Я бы на ее месте приказал себя не выставлять во МХАТе. Но то я, человек ни с чем не связанный, человек другого поколения. Для нее же МХАТ — вся ее жизнь, и лежать ей в вишневом саду на Новодевичьем. Пусть земля ей будет пухом, а Господь ее простит; пусть простит он и меня за практичность моих наблюдений. Все мои душевные помыслы и силы — в мое понимание, в религиозную трактовку повести Пушкина.